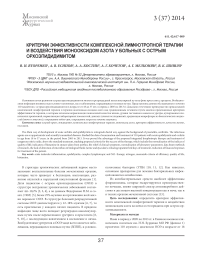Критерии эффективности комплексной лимфотропной терапии и воздействия монооксидом азота у больных с острым орхоэпидидимитом
Автор: Вторенко В.И., Есипов А.В., Костин А.А., Кочетов А.Г., Мелконян А.Г., Шишло В.К.
Журнал: Московский хирургический журнал @mossj
Рубрика: Клинические исследования
Статья в выпуске: 3 (37), 2014 года.
Бесплатный доступ
Основным путем развития острых орхоэпидидимитов является ретроградный каналликулярный путь на фоне простатита, уретрита. Возбудителями инфекции являются как условно-патогенная, так и заболевания, передающиеся половым путем. Представлены данные обследования и лечения 110 пациентов с острым орхоэпидидимитом в возрасте от 18 до 37 лет, в период с 2005 по 2013 гг. Доказано отчетливое преимущество предлагаемой комплексной лимфотропной терапии и терапии экзогенным оксидом азота над традиционным лечением путем анализа предложенных критериев эффективности терапии, к которым отнесены нормализация показателей качества жизни, уровня гистамина в мазках из уретры, купирование клинических проявлений, нормализация лабораторных показателей, данных лучевых исследований, эрадикация микрофлоры из биологических жидкостей (мочи и эякулята), сокращение койко-дня, сокращение затрат на лечение пациента.
Острый орхит, эпидидимит, комплексная лимфотропная терапия, монооксид азота, критерии эффективности, качество жизни, гистамин
Короткий адрес: https://sciup.org/142211160
IDR: 142211160 | УДК: 611.42:617-089
Текст научной статьи Критерии эффективности комплексной лимфотропной терапии и воздействия монооксидом азота у больных с острым орхоэпидидимитом
В структуре урологических заболеваний первое место занимают воспалительные болезни мочеполовых органов, которые часто приводят к бесплодию, импотенции, развитию опухолей и нарушений копулятивной функции [1]. Доля пациентов с острым орхоэпидидимитом (ООЭ) в структуре экстренных урологических заболеваний составляет 4,6–10,2% [2, 3, 4], а по данным Федорченко П.М. и со-авт. (1985) [5], более 25% мужчин на протяжении всей жизни переносят ООЭ. В структуре болезней репродуктивной системы ООЭ диагностируется у 12–18% мужчин [6, 7], то есть практически у каждого пятого пациента. В придаток инфекция чаще всего попадает ретроградно каналикуляр-ным путем после перенесенного уретрита и простатита [8, 9, 10], с последующим вовлечением в воспаление и яичка. Возбудителями уретритов и ООЭ чаще всего является заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), и условно- патогенные бактерии (УПБ) [10, 11, 12]. Как известно, основным препаратом для лечения бактериальных инфекций являются антибиотики.
Из антибактериальных средств наиболее эффективны фторхинолоны, которые экскретируются преимущественно почками, имеют широкий спектр антимикробного действия и достигают высокой концентрации как в моче, так и в тканях органов мочеполовой системы [13].
Цель исследования : определить критерии эффективности комплексной лимфотропной терапии и воздействия монооксидом азота на яичко и его придаток при остром ор-хоэпидидимите.
Материалы и методы
Нами в период с 2005 по 2013 гг. в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко МО РФ (филиал 1) пролечено 110 мужчин с диагнозом ООЭ в возрасте от 18
до 37 лет (средний возраст 25,7±0,97 лет). Участники исследования предоставили добровольное согласие на все виды медицинских вмешательств и манипуляций. Пациентам исследуемой группы (67 человек) проводилась комплексная лимфотропная антибактериальная терапия (ЛАБТ) офлоксацином или доксициклином в зависимости от обнаруженной флоры в моче, эякуляте или мазке из уретры и воздействие экзогенным монооксидом азота. При этом препаратом выбора антибактериальной терапии (АБТ) при одновременном выявлении ЗППП и УПБ был доксициклин. Лимфотропная антибактериальная терапия проводилась по методике в модификации И.В. Яремы и соавт. (1999), через сутки, на курс до 5 инфузий. Воздействие экзогенным монооксидом азота (NO) проводилось воздушно-плазменным аппаратом «Плазон-ВП» (ВПА «Плазон») на пораженную половину мошонки. Для этого сканирующими движениями перемещали плазменный пучок со скоростью 3 см в секунду над фиксированным с растянутой кожей воспаленным придатком, длительностью воздействия в 60 сек., на расстояния 15–20 см от обрабатываемой поверхности (в режиме биостимуляции репаративных процессов), с параметрами экспозиции потока монооксида азота концентрацией 300 ррт в 10–15 сек. на 1 см2 1 раз в сутки, курсом до 10 дней. Также пациентам основной группы проводилась иммунная терапия поликосидонием в дозе 6 мг, разведенным в 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида, вводимым лимфотропно по вышеуказанной методике 1 раз в 2 дня, на курс до 5 введений. Части пациентов той же возрастной группы с ООЭ, отнесенных к группе сравнения (43 мужчин), проводилась традиционная АБТ офлоксацином или доксициклином внутривенно 2 раза в сутки, каждые 12 часов в течение 10– 14 дней. Иммунная терапия у пациентов группы сравнения проводилась препаратом Галавит 100 мг в форме суппозиториев, применяемых ректально, первые сутки 2 раза в день, затем через день только на ночь, общим курсом 10 дней.
К одному из важных критериев эффективности проводимой терапии ООЭ мы отнесли нормализацию показателей качества жизни. Для этого, мы использовали анализ опросников тестов SF 36, шкалу САН (самочувствие, активность, настроение) и шкалы реактивной и личностной тревожности, которые пациенты заполняли при поступлении, через 45 и 90 дней после лечения.
Нами предложена методика, позволяющая косвенно оценить воспалительные изменения в придатке яичка и яичке по оценке воспаления в уретре, как свидетельствующего об отсутствии или наличии воспаления в анатомически тесноприлежащем органе, так и об возможном каналликулярном реинфицировании придатка. Метод основан на нормализации гистамина в мазках из уретры. Выделяющийся тучными клетками тканей (тканевыми базофилами, лаброцитами) и базофилами крови, гистамин является наиболее доступным для определения медиатором воспаления и косвенным под- тверждением наличия воспалительной реакции и оценки степени активности данной реакции в биологических тканях и жидкостях. По степени поддержания или разрешения воспалительных изменений в мазке из уретры мы косвенно оценивали уровень воспалительных изменений в придатке и яичке как результат системного воздействия проводимой терапии, в частности на органы мочеполовой системы, так и как фактора риска поддержания или повторного ретроградного инфицирования придатка. Забор мазка из уретры проводили перед мочеиспусканием до начала терапии и последующие дни утром после сна перед мочеиспусканием. Отделяемое из уретры тонким слоем растирали на предметном стекло и фиксировали эфиром. После обработки люминофором по Фальку–Хиларп в модификации Крохиной Е.М. (1959), мы изучали под люминисцентным микроскопом «Люмам – ИЗ» образующиеся свечения, интенсивность которых измеряли в условных единицах флуоресценции шкалы регистрирующего прибора. Нормальным считается значение 1–2 ед., при которых можно говорить об отсутствии либо купировании воспалительных процессов в изучаемых органах и тканях.
Другим критерием эффективности комплексного лечения мы избрали отсутствие обнаружения и роста микрофлоры из мочи и эякулята, а также в мазках из уретры. Сбор эякулята для проведения микробиологического исследования выполнялся методом мастурбации до лечения и через 6, 24, 36 часов после АБТ, а сбор мочи – до АБТ и через 3, 6, 9, 12 и 24 часа после нее.
Анализ и динамика нормализации, купирования клинических проявлений, показателей лабораторных исследований, данных лучевых методов исследования, а также сокращение длительности стационарного лечения и снижение стоимости лечения также отнесены к критериям эффективности предлагаемой нами методики.
Результаты и обсуждение
У наших пациентов до начала терапии содержание гистамина в мазках из уретры составляло 16,9±1,34 ед. (табл. 1). Значения гистамина в основной группе снижались уже на 4–6 дни лечения (9,7±1,32 ед.), а к завершению комплексной терапии (на 9–10-е сутки) показатели гистамина не превышали 2,8±0,87 ед., что указывает на очевидные признаки купирования воспалительного процесса. У пациентов группы сравнения уровень гистамина в динамике значительно превышал нормальные значения, составляя к 8–10 дням лечения 10,6±1,29 ед. (табл. 1).
Порой при ООЭ за счет выраженного отека, реактивного гидроцеле оценить истинные размеры яичка и придатка, исключить абсцедирование в начальной фазе при отсутствии его дифференцировки при пальпации не представляется возможным. Одним из важных критериев диагностики ООЭ и оценки эффективности терапии являются лучевые
Таблица 1
Динамика изменений гистамина в мазках из уретры
|
Группы пациентов |
До лечения |
4–6 сут |
9–10 сут |
|
Группа сравнения |
16,9±1,34 ед |
12,8±1,69 ед |
10,6±1,29 ед |
|
Исследуемая группа |
16,9±1,34 ед |
9,7±1,32 ед.* |
2,8±0,87 ед** |
*различия достоверны, р<0,05; **различия достоверны, р<0,01.
методы исследования. Пациент, лежа на спине, перебирая пальцами, притягивал и фиксировал к животу половой член и кожу мошонки. По простоте и неинвазивности исследования, быстроте получения достоверных результатов трудно переоценить значение ультразвукового исследования (УЗИ). Современные аппараты позволяют визуализировать изменения вплоть до 0,5 мм. Срезы яичка и придатка по всему длиннику, семенного канатика и мошонки в состоянии покоя в В-режиме, в режимах ЦДК и энергетического допплера позволяли установить не только окончательный диагноз, а также эффективность терапии. У 2 мужчин из исследуемой группы и 3 пациентов из группы сравнения, с учетом невозможности исключить абсцедирование придатка, выполнялась МРТ. Диагноз был исключен, проводимая консервативная терапия оказалась достаточной. УЗИ выполнялось у всех пациентов с ООЭ (n=110). В зависимости от локализации воспаления, сравнивая с интактной половиной мошонки, оценивали форму, размеры, эхоструктуру яичка и его придатка, очаговые изменения и наличие гидроцеле (табл. 2).
По степени регрессии воспалительных изменений прослеживается их преимущественное купирование в исследуемой группе. Однако окончательное купирование всех воспалительных УЗ-признаков имеет определенные временные интервалы – 2–4 недели, поэтому за время стационарного лечения достичь полного разрешения отека не представлялось возможным с учетом коротких сроков лечения, да и не являлось целью исследования, поскольку более важным УЗ-параметром является регресс заболевания и отсутствие очаговых изменений (абсцесс) в придатке и яичке, требующих оперативного лечения.
При исследовании флоры в мазках из уретры, биологических жидкостях (моча, эякулят) как причины ООЭ у пациентов обеих групп преимущественно обнаруживались ЗППП и микстинфекции (ЗППП и УПБ). У 76% пациентов исследуемой группы и у 74% группы сравнения диагностированы ЗППП (как моноинфекция, так и сочетание нескольких ЗППП), из них в микстинфекции с УПБ – у 12% мужчин исследуемой группы и 16% пациентов группы сравнения. Общее количество результатов исследований превышало количество пациентов за счет сочетания представленной флоры в различных биологических жидкостях и мазках у одних и тех же пациентов (табл. 3). Так, у нескольких пациентов обеих групп (8 из исследуемой, 7 из группы сравнения), кроме ЗППП, обнаруженных методом ПЦР в мазках из уретры, выявлены также УПБ в моче и эякуляте, однако в титрах, не превышающих 103–104 КОЕ/мл, что не требовало коррекции терапией, проводимой при данной ЗППП. Довольно часто отмечалось совпадение обнаруженной в биологических жидкостях микрофлоры. Выявленная у одного больного микрофлора в моче и эякуляте в 92–93% случаев идентична, объяснима общими путями выведения биологических жидкостей (уретра), близостью анатомического расположения и тесными функциональными связями мочеполовой системы. В числе 8 пациентов с ЗППП исследуемой группы у 5 пациентов УПБ обнаружена в моче, а у 3 – в эякуляте. В группе сравнения у 7 пациентов с ЗППП обнаружены также УПБ: у 4 – в моче и у 3 – в эякуляте. Общее количество обнаруживаемых в эякуляте УПБ значительно уступало их обнаружению в моче. Это объясняется, прежде всего, наличием гематотканевого защитного механизма половых органов, более легким выявлением бактерий при
Таблица 2
Распределение пациентов в зависимости от УЗ-изменений
|
Локус воспаления (толщина, размеры, мм) |
Размеры в норме (мм) |
Количество пациентов |
Размеры яичка и придатка до лечения и в динамике/количество пациентов, мм (%) |
||||||
|
Исследуемая группа (n=67) |
Группа сравнения (n=43) |
||||||||
|
При поступл. |
5-е сутки |
10-е сутки |
При поступл. |
5-е сутки |
10-е сутки |
||||
|
Стенка мошонки |
3–8 |
76/ 69% |
11± 0,74 |
8,8±0,54 |
6,2±0,31 |
10,8± 0,68 |
8,6±0,32 |
7,8±0,31 |
|
|
Яичко (диффузный отек) |
40–50×25–35 |
25 (23%) |
65×40 (27%) |
56×38 |
48× 28 |
62×40 (16,3%) |
55×36 |
50× 34 |
|
|
придаток |
Головка |
10–15 |
13 (12%) |
20,2 (13,5%) |
17,2 |
12,4 |
21,2 (9,3%) |
18,5 |
15,7 |
|
Тело |
– |
32 (29%) |
18,3 (26,7%) |
14,6 |
6,5 |
16,3 (32,5%) |
12,2 |
7,4 |
|
|
Хвост |
– |
40 (36%) |
21,8 (32,8%) |
16,4 |
8,8 |
20,2 (41,9%) |
16,9 |
9,4 |
|
|
Толщина межоболоч. жидкости яичка |
до 3 |
65 (59%) |
8,4 (56,7%) |
6,5 |
4,2 |
7,9 (62,3%) |
6,4 |
5,6 |
|
|
Всего пациентов |
– |
110 (100%) |
67 (100%) |
– |
– |
43 (100%) |
– |
– |
|
Таблица 3
Распределение пациентов по виду обнаруженной микрофлоры
|
Возраст |
Кол-во пациентов |
Микрофлора |
|||||
|
Исследуемая группа (n=67) |
Группа сравнения (n=43) |
||||||
|
ЗППП (и УПБ) |
УПБ (моча) |
УПБ (эякулят) |
ЗППП (и УПБ) |
УПБ (моча) |
УПБ (эякулят) |
||
|
18–23 л |
31 |
11+3 |
6 |
1 |
10+2 |
4 |
2 |
|
24–30 л* |
54 (56)* |
28+1 |
7 |
4 |
13+2 |
6 |
2 |
|
30–37 л |
23 |
4+4 |
10 |
6 |
2+3 |
7 |
5 |
|
Всего |
108 (110)* |
43+8 |
23 |
11 |
25+7 |
17 |
9 |
Примечание: * у 1 пациента 29 лет исследуемой группы и 1 пациента 27 лет группы сравнения ни ЗППП, ни УПБ не выявлены
уретритах и циститах, при которых инфекция сразу же попадает в просвет данного органа, и меньшим количеством обнаруживаемых бактерий в секрете железистых органов, в том числе за счет частичной воспалительной закупорки выводных протоков желез и отсутствия при этом выделения секрета с бактериями из них. У большинства пациентов обеих групп в моче и эякуляте выявлены микстинфекции. Также у 19 пациентов обеих групп обнаружены несколько ЗППП. С учетом одинаковой терапии при микстинфекции и моноинфекции дополнительные подгруппы не выделялись, дополнений к лечению не было. Среди обнаруженных УПБ доминировали ассоциации, а среди моноинфекций превалировала кишечная палочка и энтеробактерии, что соответствует многим литературным данным. У пациентов исследуемой группы отмечена санация мочеполовой системы как от ЗППП, так и от УБП во всех случаях (результаты части исследований получены при амбулаторном обследовании). У 2 пациентов группы сравнения для санации хламидии тра-хоматис и уреаплазмы уреалитикум спустя месячный перерыв потребовался повторный курс АБТ. При последующем обследовании отмечена эрадикация возбудителей. В группе сравнения на 7 сутки АБТ в эякуляте у 6 пациентов определялись низкие титры (менее 103 КОЕ/мл) УПБ, большая часть из которых сочеталась с ЗППП. Повторной АБТ не потребовалось и после общеукрепляющей, витаминотерапии, неспецифической иммунной терапии пациенты полностью санированы к 14 суткам. В исследуемой группе в собранном на 7-е сутки АБТ эякуляте УПБ не обнаруживались. При контрольных амбулаторных обследованиях через 10–14 дней по завершении АБТ у 1 пациента исследуемой группы и 3 пациентов группы сравнения отмечен рост бактериальной флоры в эякуляте в низких титрах (102–103 КОЕ/мл). Дополнительной терапии не потребовалось. С учетом нормального анализа мочи в течение 1 месяца после выписки, повторные бактериологические исследования мочи не проводились.
Одними из важных критериев успешности проводимой терапии ООЭ являются купирование жалоб, дизурии, появление складчатости кожи, отсутствие выделений из уретры, достижение нормотермии, нормализация лабораторных показателей.
По степени купирования жалоб, клиническому регрессу заболевания прослеживается явное преимущество комплексной ЛАБТ и NO-терапии и лимфотропного введения полиоксидония у пациентов исследуемой группы (за исключением 3 пациентов исследуемой и 2 пациентов из группы сравнения, не предъявляющих жалоб) (табл. 4). Боли в мошонке купировались на 3–4 дня раньше у пациентов исследуемой группы с комплексным воздействием ЛАБТ и монооксидом азота и лимфотропным введением полиоксидония (боли купировались в первые 2-е суток терапии), а отек мошонки, гипертермия и общетоксические проявления (не-
Таблица 4
Распределение пациентов по купированию жалоб на фоне терапии
|
Жалобы и клинические проявления на фоне терапии в группах |
Группа 1 |
Группа 2 |
||||||
|
Всего |
1–2 сутки |
3–5 сутки |
6–9 сутки |
Всего |
1–2 сутки |
3–5 сутки |
6–9 сутки |
|
|
Боли в мошонке |
64 |
46 |
12 |
6 |
41 |
7 |
21 |
13 |
|
Лихорадка, озноб |
23 |
17 |
3 |
3 |
21 |
5 |
12 |
4 |
|
Выделения из уретры |
5 |
1 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
|
Учащенное мочеиспускание |
15 |
2 |
10 |
3 |
13 |
1 |
4 |
8 |
|
Недомогание, миалгия |
16 |
16 |
4 |
3 |
15 |
4 |
13 |
4 |
|
Отсутствие жалоб |
3 |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
домогание, миалгия) разрешались на 2–3 дня раньше, чем у пациентов группы сравнения. Явления учащенного мочеиспускания во 2 группе купировались с 3–5 суток, но у большинства – лишь на 6–9 сутки. Тогда как в исследуемой группе данный симптом купировался у большинства пациентов на 3–5 сутки. Различий по прекращению выделений из уретры не выявлено в связи малым количеством встречаемости данной жалобы, скудностью клинических проявлений инфекций, вызванных ЗППП и УПБ. Эффективность терапии у пациентов с ООЭ, не предъявляющих жалоб на боли, оценивали прекращением нарастания отека, его регрессом, данными лучевых и лабораторных методов обследования, нормализации шкал опросников КЖ.
Лабораторные показатели в указанных группах, в связи с отсутствием системной воспалительной реакции при ООЭ у лиц молодого возраста с острой формой инфекции, без значимых иммуносупрессирующих хронических заболеваний, оказались статистически не достоверными (р>0,05). Отмечалась нормализация лейкоцитоза, снижение количества нейтрофилов, повышения лимфоцитов в обеих группах. При этом в исследуемой группе «лейкоцитарная формула» с тенденцией к нормализации отмечалась уже с 1–3 (1,6±0,8) суток, а нормализовалась к 5–10 (6,4±1,1) суткам терапии.
Тогда как во 2 группе снижение лейкоцитоза мы наблюдали, начиная с 3–5 (4,1±1,1) суток, с нормализацией «лейкофор-мулы» к 8–12 (10,2±1,3) суткам лечения. Повышение СОЭ крови в обеих группах практически у всех пациентов сохранялось и к моменту выписки.
Психофизиологические показатели здоровья пациентов, страдающих ООЭ, так же, как и показатели соматического здоровья, находятся в зависимости от основных показателей факторов КЖ и образа жизни и в значительной мере от вида лечебного воздействия. Полученные в результате обследования данные показывают преимущество новых технологий – одновременного сочетанного применения лимфотропной терапии (ЛТТ) и воздействие монооксидом азота с помощью ВПА «Плазон» над традиционными методами лечения ООЭ. Достоверные различия определены для следующих показателей психофизиологического здоровья: показателей по шкалам САН и SF-36.
Для анализа и оценки качества жизни мужчин с ООЭ, эффективности применяемых нами лечебных методик на этот показатель необходимо было определить условные нормальные референсные значения общего уровня КЖ у здоровых мужчин. Поскольку при этом имеются некоторые различия по возрасту, нами выполнен анализ здоровых
Таблица 5
Критерии качества жизни опросника SF 36 у разных групп
|
Критерии качества жизни |
Основная группа (n=67) |
Группа сравнения (n=43) |
||||
|
До лечения |
Через 45 суток |
Через 90 суток |
До лечения |
Через 45 суток |
Через 90 суток |
|
|
ФА (PF) |
74,7±3,16 (60–100) |
86,2±2,24* (80–100) |
87,1±2,05 (80–100) |
76,4±2,86 (60–100) |
81,4±3,01 (65–100) |
86,6±2,70 (80–100) |
|
РФ (RP) |
71,6±2,40 (60–100) |
83,6±1,69* (75–100) |
84,6±2,44 (75–100) |
72,4±2,70 (60–100) |
79,1±2,21 (65–100) |
83,8±3,01 (75–100) |
|
ИБ (BР) |
74,2±2,38 (52–100) |
87,8±3,12 (85–100) |
89,2±1,60 (85–100) |
73,6±1,96 (52–100) |
86,9±1,65 (81–100) |
87,6±2,64 (81–100) |
|
ОЗ (GH) |
62,4±3,98 (50–86) |
68,3±2,18 (64–88) |
70,2±2,86 (64–88) |
64,5±3,54 (50–86) |
67,9±2,56 (64–88) |
68,6±1,98 (64–88) |
|
ЖС (VT) |
63,4±0,86 (60–90) |
75,5±2,31* (65–95) |
77,2±1,56 (65–95) |
65,6±0,79 (60–90) |
70,6±1,40 (60–95) |
75,6±2,24 (65–95) |
|
СА (SF) |
84,3±1,16 (55–100) |
89,6±1,98 (80–100) |
88,6±2,60 (80–100) |
85,8±1,24 (55–100) |
87.6±2,96 (65–100) |
87,2±2,44 (80–100) |
|
РЭ (RE) |
84,6±3,26 (45–100) |
89,6±2,24* (70–100) |
90,2±3,14 (80–100) |
82,9±2,86 (45–100) |
86,5±3,46 (70–100) |
89,4±1,88 (80–100) |
|
ПЗ (MH) |
(60–100) 74,3±1,78 |
(75–100) 82,4±2,55 |
(85–100) 82,6±1,94 |
(60–100) 75,1±3,21 |
(75–100) 80,2±2,64 |
(80–100) 81,0±1,86 |
|
СС (СН) |
(30–80) 61,0±2,64 |
(30–80) 68,4±1,42 |
(30–80) 69,7±1,98 |
(30–80) 63,2±2,46 |
(30–80) 67,2±2,96 |
(30–80) 68,1±3,05 |
Примечание: *различия достоверны, р<0,05. В скобках указаны минимальная и максимальная величины. ФА (PF) – физическая активность, РФ (RP) – роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности, ИБ (BР) – интенсивность боли, ОЗ (GH) – общее здоровье, ЖС (VT) – жизнеспособность, СА (SF)– социальная активность, РЭ (RE) – ролевое эмоциональное функционирование, ПЗ (MH) – психическое здоровье, СС – самочувствие (по сравнению с предыдущим годом).
мужчин в возрасте 18–40 лет, у которых при диспансерном обследовании патологические изменения органов мочевой и половой систем не выявлены, уровень КЖ которых был принят за возрастные нормальные значения. С помощью опросника SF-36 мы определяли КЖ у пациентов с ООЭ в баллах от 0 до 100 (табл. 5).
При оценке КЖ перед проводимой терапией отмечена корреляция в обеих группах. Через 45 дней после проведенной терапии при амбулаторном обследовании у всех мужчин исследуемой группы симптомы заболевания полностью регрессировали, а в группе сравнения периодически отмечались клинически незначимые симптомы заболевания. Через 90 дней после лечения при обследовании показатели КЖ схожи в обеих группах.
Для изучения психоэмоционального состояния пациентов мы применяли психодиагностические тесты, исследующие личностные свойства и эмоциональные особенности, изучающие мотивацию и интеллект, поведение, соотношение ценностей, отношение к общественному началу. Это позволяет оценить целостный образ личности человека, стандартизировать указанные характеристики пациента в соответствии с нормативами социума, а также оценивать динамику данных изменений.
Тест дифференциальной самооценки функционального состояния САН, оценивает функциональное состояние по составляющим самочувствия, активности и настроения. Важным фактором было учитывать соотношение указанных признаков относительно друг друга, поскольку они взаимно связаны и опосредованы. За условную норму принято считать показатели самочувствия 6,0–6,2, активности – 5,2–5,4 и настроения – 5,5–5,9.
Шкала реактивной и личностной тревожности – это единственная методика, позволяющая дифференцировано измерять тревожность и как личностное свойство, и как состояние, связанное с текущей ситуацией. Реактивная (ситуативная) тревожность характеризует состояние человека в данный момент времени в конкретной обстановке и возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию, характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Личностная тревожность характеризуется склонностью принимать различные ситуации как угрожающие, находится при этом в состоянии тревоги.
При интерпретации показателей можно использовать следующие ориентировочные оценки
Таблица 6
Динамика показателей психологического обследования пациентов с ООЭ после терапии
|
Показатели |
До лечения |
Через 45 дней после лечения |
Через 90 дней после лечения |
||
|
Группы |
Группы |
||||
|
1 группа |
2 группа |
1 группа |
2 группа |
||
|
Самочувствие |
5,3±0,5 |
6,2±0,9* |
5,5±0,85 |
6,2±1,2 |
6,0±1,8 |
|
Активность |
4,9±0,4 |
5,2±1,4 |
5,1±1,1 |
5,3±1,6 |
5,4±1,2 |
|
Настроение |
4,8±0,3 |
5,9±1,0* |
5,1±0,95 |
6,0±1,2 |
5,9±1,3 |
|
Реактивная тревожность |
36±2,4 |
27,6±1,1* |
32±0,9 |
27,2±1,2 |
29,1±1,4 |
|
Личностная тревожность |
34±1,8 |
28,8±2,1 |
29,2±1,5 |
29,2±2,4 |
30±2,2 |
Примечание: *различия достоверны, р<0,05.
тревожности: до 30 баллов – низкая тревожность, от 31 до 44 баллов – умеренная тревожность, от 45 баллов и более – высокая тревожность.
Во всех исследуемых группах через 45 и 90 дней после лечения отмечались нормализация или улучшение показателей самочувствия, активности, настроения и реактивной тревожности (табл. 6).
Показатели теста «САН» статистически достоверно выше в 1 группе больных по сравнению со 2 группой (р<0,05).
В таблице 6 представлены показатели реактивной и личностной тревожности, указывающие статистически достоверные отличия реактивной тревожности, – в исследуемой группе ниже, чем в группе сравнения (р<0,05). Статистически достоверных различий показателей личностной тревожности в исследуемых группах больных не выявлено (р>0,05).
Таким образом, психофизиологические показатели здоровья пациентов, страдающих ООЭ, так же, как и показатели соматического здоровья, находятся в зависимости от основных показателей факторов КЖ и образа жизни и в значительной мере от способа лечения. Полученные обследования показывают преимущество предложенной новой технологии – комплексной ЛАБТ и воздействия ВПА «Плазон», над традиционными видами лечения по воздействию на показатели психофизиологического здоровья пациентов, страдающих ООЭ. Достоверные различия определены для следующих показателей психофизиологического здоровья: средних значений теста «САН», показателей по шкале SF 36.
По результатам проведенного лечения больных обеих групп мы провели подсчет затраченных на каждого больного средств. Мы применяли известную формулу расчета средств на лечение (Горбунов О.В., 2003):
Затраты = (n ∙ x) + (nl ∙ y).
Нами установлено, что сроки лечения пациентов исследуемой группы в среднем составили 9,03±0,12 (от 8 до 10) койко-дней, против 12,2±0,32 (от 10 до 14) койко-дней в группе сравнения (различия достоверны, р<0,05). При этом сокращался не только общий койко-день как элемент экономической составляющей эффективности лечения, а также кратность и суммарное введение общей дозы антибиотиков на 1 пациента – в исследуемой группе ЛАБТ проводилась 1 раз в два дня.
С учетом стоимости койко-дня (1500 руб. ФГКУ ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, филиал №1), стоимости препаратов (средняя стоимость по данным аптек города Москва: доксициклина 0,1 г для инфузий 1 флакон – 64 руб., офлоксацина 200 мг 1 флакон – 32 руб., полиоксидония 6 мг флаконы №5 – 810 руб., галавита 100 мг суппозитории №10 – 705 руб.), стоимость лечения больных группы сравнения составила 29150– 30550 руб. Стоимость лечения больных основной группы при тех же условиях, с учетом пребывания их в стационаре в среднем 9,03±0,12 дней, составила 17500–19200 руб.
Разница в затраченных денежных средствах на лечение пациентов в сравниваемых группах очевидна.
Обсуждение
Используя прямые методы лабораторной диагностики (бактериологический и молекулярно-биологический), было установлено, что у пациентов обеих групп преимущественно обнаруживаются ЗППП. Большой удельный вес занимают обнаруживаемые при бактериологических посевах УПБ и сочетание ЗППП и УПБ. Инфекции чаще обнаруживались в моче (УПБ) и уретральных мазках (ЗППП). На фоне лимфотропной антибактериальной терапии в сочетании с воздействием монооксидом азота достигалась санация уретры и биологических жидкостей организма (моча, эякулят) от ЗППП и УПБ. У пациентов исследуемой группы отмечена санация мочеполовой системы от ЗППП в 98,5% случаев, а от УПБ – в 100% случаев (результаты части исследований получены после выписки из стационара). У пациентов группы сравнения ЗППП санированы после первого курса лечения в 88,5% случаев, а УПБ – в 91%. После повторного курса лечения у всех пациентов достигнута эрадикация возбудителей.
Эффективность проводимой терапии мы оценивали по ряду и других параметров. Одним из критериев эффективности является гистамин, обнаруживаемый в уретральных мазках. Высокое содержание гистамина в обеих группах до начала терапии (до 16,9±1,34 ед.), подтверждающее воспаление в уретре, даже на 8–10-е сутки лечения превышало нормальные значения (10,6±1,29 ед.) в группе сравнения. Тогда как в исследуемой группе уже на 4–6 дни лечения показатели гистамина были 9,7±1,32 ед., не превышая 2,8±0,87 ед. на 9–10-е сутки лечения. Наиболее часто применяемым, информативным, неинвазивным, менее дорогостоящим и быстрым по получению результата методом исследования является УЗИ. Из лабораторных показателей обращает внимание быстрая нормализация лейкоцитов 6,4±1,1 сутки лечения в исследуемой группе, тогда как в группе сравнения снижение лейкоцитоза мы наблюдали, начиная с 4,1±1,1 суток с нормализацией лейкоформулы к 10,2±1,3 суткам лечения. Однако и при выписке у пациентов обеих групп сохранялось повышение СОЭ. Из клинических критериев наиболее значимыми были болевой синдром (в исследуемой группе купирован на 3–4 дня раньше, чем в группе сравнения, то есть на 1–2-е сутки лечения), отек мошонки, гипертермия и общетоксические проявления (недомогание, миалгия) (разрешались на 2–3 дня раньше у пациентов исследуемой группы). Не установлено значимых различий по степени купирования дизурии. Комплексная терапия позволяет сократить сроки стационарного лечения. Средний койко-день в группе сравнения составил 12,2±0,32 (от 10 до 14) койко-дней, значимо превышающий средний койко-дней в исследуемой группе, составляющий 9,03±0,12 (от 8 до 10) койко-дней. Данный факт прямо коррелирует с экономической эффективностью, анализ расчетов которой показал преимущество комплексной терапии. При этом сокращался не только общий койко-день как элемент экономической составляющей эффективности лечения, а также кратность и суммарное введение общей дозы антибиотиков на 1 пациента – в исследуемой группе 5 введений, в группе сравнения – 20 введений. Одним из важных критериев оценки проведенного лечения является самооценка своего состояния пациентом. Анализ опросников качества жизни пациентов с ООЭ показал наиболее значимые для оценки лечения, прогнозирования опросники SF-36 и САН.
Выводы
Полученные результаты подтвердили эффективность предлагаемой нами комплексной терапии ООЭ (ЛАБТ в сочетании с применением экзогенного монооксида азота), в виде купирования воспалительной реакции в яичке и его придатке и достижения санации мочи и эякулята в более ранние сроки, а также сокращением койко-дня, уменьшением затрат на лечение данной группы пациентов по сравнению с пациентами группы контроля.
Данные критерии могут быть использованы в клинических условиях как показатель эффективности выбора метода лечения, так и ее успешности.
Список литературы Критерии эффективности комплексной лимфотропной терапии и воздействия монооксидом азота у больных с острым орхоэпидидимитом
- Сухих Г.Т., Божедомов В.А. Мужское бесплодие. М.: Эксмо, 2009.
- Писаренко И.А. Повышение эффективности лечения острого эпидидиморхита. Автореф. дис..канд. мед. наук. Киев, 2001.
- Камалов A.A., Бешлиев Д.А., Шакир Ф. Острый эпидидимит: этиопатогенез диагностика, современные подходы к лечению и профилактике//Лечащий Врач. 2004. №9.
- Сафаров Ш.А. Современные подходы к лечению острого эпидидимоорхита. Дис..канд. мед. наук. М., 2007.
- Федорченко П.М., Жила В.В., Волков Г.П. Лечение больных острыми воспалительными заболеваниями органов мошонки//Урол. и нефрол. 1985.
- Шорманов И.С, Ворчалов М.М., Рыжков А.И. Острый эпидидимит: медицинские и социальные аспекты. Современные возможности патогенетической терапии//Экспериментальная и клиническая урология. 2012. №22 (49).
- Kauffman C.A et al. Endemic mycoses: Blastomycosis, hiatoplasmosis, and sporotichosis//Infect. Dis. Clin. North Am. 2006. Sep. Vol. 20, №3. P. 645-662.
- Лопаткин Н.А. Урология. Национальное руководство/Под ред. Н.А. Лопаткина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 1024 с.
- Furuya R.,Takahashi S.,Furuya S. Et al.//J. Urol. 2004. Vol. 171(4). P. 1550-1553.
- Sharp V.J., Takaks E.B.; Powel C.R. Prostatitis: Diagnosis and Treatment//Amer. Fam. Physic. 2010. Vol. 82, №4. P. 397-406.
- Липова Е.В., Баткаев Э.А., Витвицкая Ю.Г. Особенности клинического течения инфекционно-воспалительных заболеваний урогенитального тракта мужчин на современном этапе//В ст.: Материалы научных работ III Всерос. конгресса дерматовенерологов. Казань, 2009. С. 85-86.
- Скидан Н.И., Кузнецова Ю.Н., Горбунов А.П. и др. Хламидий-ная инфекция, ассоциированная с условно-патогенной микрофлорой//Совр. пробл. дерматовенерол. иммунол. врачеб. косметол. 2009. №1. С. 11-15.
- Аляев Ю.Г., Султанова Е.А., Шпоть Е.В. Применение Тава-ника в урологии//РМЖ. 2009. №25. C. 1681.
- Чернеховская Н.Е., Шишло В.К., Чомаева А.А., Шевхужев З.А. Основы взаимодействия NO-терапии и лимфотропной антибиотикотерапии при лечении трофических язв//Хирургическая практика. 2013. № 1. С. 9-13.