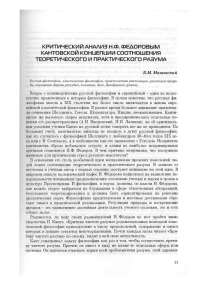Критический анализ Н. Ф. Федоровым кантовской концепции соотношения теоретического и практического разума
Автор: Машевский Борис Михайлович
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Философия и социология
Статья в выпуске: 2 (8), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется критика Н.Ф. Фёдоровым кантовской концепции соотношения теоретического и практического разума. Несмотря на утопический в целом характер «Философии общего дела», в главном произведении Н.Ф. Фёдорова неожиданно обнаруживаются идеи, коррелирующие с установками современной науки. В творчестве Н.Ф. Фёдорова интуитивно схвачена установка на идею коэволюции как основополагающий принцип новой натурфилософии, которая является важнейшей особенностью постнеклассической науки и современной философии науки. Это возбуждает интерес к новому прочтению творческого наследия русского мыслителя.
Русская философия, классическая философия, федоров н. ф., регуляция природы, априорные формы рассудка, познание, биосферный уровень, натурфилософия, коэволюция, соотношение теоретического и практического разума
Короткий адрес: https://sciup.org/144152920
IDR: 144152920
Текст научной статьи Критический анализ Н. Ф. Федоровым кантовской концепции соотношения теоретического и практического разума
Вопрос о взаимодействии русской философии и европейской - один из недостаточно проясненных в истории философии. В целом известно, что русская философская мысль в XIX столетии все более смело включается в жизнь европейской классической философии. В разное время большое внимание привлекали сочинения Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше, неокантианцев. Кантианство же вызывало скорее неприязнь, хотя и предпринимались отдельные попытки его распространения (А.И. Введенский, И.И. Лапшин), но об оригинальном усвоении учения Канта на русской почве говорить все же не приходится. По большому счёту', кантианство никогда не входило в дупл- русской философии, как это случилось с философией Шеллинга у любомудров 30-40-х годов XIX века или у В. Соловьева, а в особенности как это произошло с Гегелем. Неприятие кантианства обрело небывалую остроту, и одним из наиболее непримиримых критиков становится Н.Ф. Федоров. В чем причина неприязни, что послужило мишенью для критических стрел русского мыслителя?
В основании его столь необычной идеи воскрешения прежних поколений людей лежит соотношение теоретического и практического разутая. В записке от неученых к учёным автор с первых страниц заостряет внимание на этой идее. В широком смысле полемический пафос Н. Фёдорова направлен на выявление ненормальности понимания предназначения «сословия» ученых и науки в целом в культуре Просвещения. И философия, и наука, должны, по мысли Н. Фёдорова, как можно скорее выбраться из блуждания в сфере отвлеченных абстракций, бесплодного теоретизирования и должны быть сориентированы на решение практических задач. Философские представления и научные достижения обретают смысл в практической реализации. Регуляция природы и воскрешение предков - это единственно достойная деятельность ученого сословия, это и есть «общее дело».
Разумеется, по ходу своих размышлений Н. Фёдоров не мог пройти мимо творчества И. Канта. «Критика чистого разума» родоначальника немецкой классической философии принадлежит к числу' произведений, содержание и смысл которых и поныне остаются неисчерпаемыми. Почти каждая эпоха читает «Критику чистого разума» по-своему, видит в ней свою актуальность.
Кант усматривал задачу философии как раз в том. чтобы осуществить критику чистого разума. Причем он имеет в виду' не какие-то отдельные сферы или системы. Он пытается отыскать корни всей проблематики разума, этой дарован- ной человеку способности, чтобы понять, что он может, а что нет, как рождаются его принципы, формируются понятия.
Вывод Канта таков: достаточно строгий анализ любой теории, претендующей на безусловно полный синтез всех определений, на безусловную справедливость своих утверждений, всегда обнаружит в ее составе более или менее искусно замаскированные антиномии. Следовательно, критика чистого разума имеет вполне практический смысл. Кроме того, критика Кантом рассудочного мышления имела диалектический характер. Кант различал рассудок и разум; он считал, что разумное познание выше и по природе своей диалектично. В этом отношении особый интерес представляет его учение о противоречиях («антиномиях») разума. Согласно Канту, разум, решая вопрос о конечности или бесконечности мира, его простоте или сложности и т. д., впадает в противоречия. Диалектика, по его мнению, имеет негативный отрицательный смысл: с одинаковой убеди-тельностыо можно доказывать, что мир конечен во времени и пространстве (тезис) и что он бесконечен во времени и пространстве (антитезис). Как агностик Кант ошибочно полагал, что подобные антиномии неразрешимы. Тем не менее его учение об антиномиях разума было направлено против метафизики и самой постановкой вопроса о противоречиях способствовало развитию диалектического взгляда на мир. Конструируемый же сознанием предмет Кант называет природой и ({юрмально признает, что познание имеет своим предметом природу. но по существу противопоставляет ее объективному миру.
С таким подходом решительно не соглашается Фёдоров. Познание не только должно быть безусловно направлено на объективный мир. оно должно изменять мир. «Разум практический, равный по объему теоретическому, и есть разум правящий. или регуляция, т. е. обращение слепого хода природы в разумный...» [Фёдоров 2003. Т.1: 13]. Однако, как пишет Фёдоров, сентенции, которые Кант произносил «..над знаниями, делами и произведениями человеческими, он называл не “суждениями” (кроме суждений об искусстве), а обыкновенно “критиками". хотя мог бы прямо назвать тюрьмами... ибо и самый “чистый" разум он осудил на вечную тьму неведения, незнания...» [Федоров 2003. Т.2 : 199].
Знание, чтобы не быть бесплодным, не должно бьггь отделено от дела. Тогда, согласно Федорову, человечеству как совокупному субъекту познания будет противопоставлена «неразумная природа» как целостный объект познания. Только таким образом структурированные субъект-объектные отношения позволят человечеству выполнить свою миссию «воссоздания».
Практическая часть «общего дела» Фёдорова опирается на познавательную деятельность, понимаемую исключительно как совместную деятельность всех «сынов и дочерей человеческих». «Таким образом мир или природа придет к самосознанию и самоуправлению через объединившиеся в общей цели и в общем деле существа, ныне в розни и в бездействии находящиеся» [Фёдоров 2003. Т.2: 192].
Проект «регуляции природы» включает некоторые конкретные предложения, в том числе о регуляции погоды методом взрыва в облаках, который достаточно широко распространился в наше время, а также и более глобальные проекты «внесения в природу воли и разума»: об управлении движением земного шара и магнитными силами, об овладении новыми источниками энергии, о метеорической регуляции в масштабах не только всей планеты, но и о выходе в космос и управлении космическими процессами.
«Регуляция природы» является для Фёдорова исполнением библейского представления о месте человека на земле. Перевод военной мощи в созидательную и мирную, победа над стихийными силами, над голодом, болезнями и смертью - в этом действительное христианское предназначение современного человечества.
Фёдоров расценивал как однозначно катастрофическое то направление, в котором движется развитие нынешней «эксплуатирующей, а нс восстанавливающей» природу7 цивилизации. Человечество виновато нс только в хищническом, сугубо потребительском отношении к природе, но даже пассивное бездействие человека означает измену эволюционному предназначению разума: стать орудием «внесения порядка в беспорядок, гармонии в слепой хаос».
Созерцательное отношение к космосу, уходящее в глубокую древность, преоб-ладало многие века. И только начиная с Фёдорова, в философию и науку входит требование преобразовательной активности со стороны человечества, направленной на макрокосмос.
Не мог оставить без внимания русский мыслитель учения Ф. Бэкона и Р. Декарта. Основание для критики здесь Фёдоров усматривает вовсе не в эмпиризме и рационализме как таковых, но исключительно в том, что в этих учениях отсутствует идея универсализма («единичные опыты» Ф. Бэкона, «Декартово мышление в одиночку»). Именно влияние «ограниченного эмпиризма и столь же узкого и искусственного рационализма» стимулировало «мнимое» (по этой причине) западноевропейское Просвещение [Фёдоров 2003. Т.2 : 194].
Необходимой предпосылкой реализации проекта «общее дело» Фёдоров считает «наличность целей не только личных, но и коллективно достигаемых» у разных по уровню развития цивилизаций. Данный факт рассматривается в качестве основы тенденции возрастания «целесообразности в мире». Однако текущая эволюция «сеть низшая ступень развития и ... следовательно, должна быть высшая, которая и должна в корне исправить зло. естественно проистекающее от
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2008 (2) непризнавания цели единой и общей и от постановки только личных и ближайших целей» [Фёдоров 2003. Т.2 : 195].
Ресурсами одного мышления вопрос о необходимости и возможности достижения полной целесообразности в мире не решить. В истории философии по проблеме субстанции обнаруживаются две принципиально отличающиеся позиции: монистическая и плюралистическая. Неспособность философии определиться по данной проблеме, по мысли Н. Фёдорова, свидетельствует об отсутствии .у современной ему философии какой-либо практической направленности. «Философия, определяя себя лишь как знание, тем самым признает себя праздным любопытством, из которого ничего нс выходит, ни даже знания» [Фёдоров 2003. Т.2 : 195]. Отсутствие общепризнанной точки зрения по проблеме субстанциональности мира в онтологии приравнивается, на взгляд Федорова, к самообличению философии в вопросе о мировой целесообразности. Сам объективный ход мировой истории на протяжении тысячелетий убеждает нас в возрастании целесообразности. Фёдоров считал, что после совершенного Христом спасения мира сила спасения уже пребывает в мире. Поэтому современное человечество способно активно влиять на мировую эволюцию, придавая ей всё более целесообразности. «Мы ... обязаны. - пишет Фёдоров. - поставить человечеству одну общую цель и утверждать необходимость, возможность и обязательность установления целесообразности не словом. общи.м делол!» [Фёдоров 2003. Т.2 : 195]. Равноправное же существование в онтологии как плюрализма, так и монизма препятствует утверждению философии общего дела.
Так. Фёдоров весьма негативно высказывается по отношению к философскому плюрализму. Плюрализм, утверждающий множественность, по сути, утверждает, что мир есть беспорядок, а «если мир есть беспорядок, в нем невозможно и достаточное знание, пока длится беспорядок» и ни о какой целесообразности в данной парадигме не может быть и речи. Выход из тупика плюрализма один -преобразующая практическая деятельность - «общее дело» [Фёдоров 2003. Т.2 : 195].
В отношении философского монизма Н. Фёдоров высказывается также весьма скептически. По его мысли, если бы монизм не был только предположением, не было бы и надобности различать идеализм и материализм как две вполне самостоятельные субстанции. Однако как «линия Платона», так и «линия Демокрита» искони присутствуют в философии. «Существование разномнений здесь равносильно признанию недоказанности утверждения мирового единства, а с ним - и целесообразного порядка» [Фёдоров 2003. Т.2 : 196].
Кантианство («путь кенигсбергский») в силу метафизичности нс способно признать «ни Сына Человеческого, ни сынов человеческих в их родственном единстве чистым разумом, знающим только всепоглощающее “Я" в его противоположности к чуждому ему “He-я”». Для «пути кенигсбергского», утверждает Н. Фёдоров, удовлетворительное решение проблемы зла (беспорядка, нецелесообразности) в мире с философско-теистической точки зрения остается невозможным. Пантеизм отвергается на том основании, что по причине крайне отвлеченного мышления утверждает, «что в мире все-таки есть порядок и высшая целесообразность. Это уже прямая недобросовестность, непозволительная для предполагаемого достоинства философии» [Фёдоров 2003. Т.2 : 197].
Обобщая свои размышления по поводу «чистого разума Канта», Н. Фёдоров говорит, что философия Канта есть верный вывод из вселшрно-лсешднской истории вообще и германо-романской истории XVIII века в особенности. II если иной, более широкой и содержательной всемирно-сыновней истории не будет, то тогда не будет также и другой философии, которая должна быть (философия общего дела). «Философия, вышедшая из критики чистого разума, могла стать только тем. чем она стала и чем она пребывает и доселе, то есть только мышлением. Но вся философия и всякая философия несостоятельна, если она — мысль без дела ... превращение мыслимого в осуществляемое, в действительное есть дело всех людей без исключений, а не одного ученого сословия. Это дело реальное, нравственное и религиозное» [Фёдоров 2003. Т.2 : 198].
Противоречие, антиномия разумных существ и неразумной силы не разрешится. пока разумные (разумно мыслящие^ существа не станут разумно дей-ствующилш. то есть пока не объединятся два разума, теоретический и практический, а с ними и третий - художественный и религиозный. Только таким образом устранится противоречие разумного и неразумного, лежащее внутри самой природы. «Если теоретический разум представляет мир и таким, каким он есть, и таким, каким он должен быть, то разум практический должен представить его лишь в одном смысле, в долженствующем быть, то есть в проективном» [Фёдоров 200 3. Т.2 : 200].
Конечно, представление Фёдорова о космосе вполне христианское. Существующий для Фёдорова космос задан как следствие падения человека, так как изначальный мир был миром гармонии и чистоты. Поэтому и необходим всеобщий синтез («общее дело»). Космос у Фёдорова становится «хозяйством», подчинённым задаче воскрешения предков. «Регуляция природы» - это христианство, обращённое в действие воскрешения, вследствие чего проект неизбежно и вопреки желанию автора приобретает утопические черты.
К сожалению, ситуация автономизации, т. е. невключенности, русской философской мысли, пусть и религиозно окрашенной, в реалии европейской актуальности, -это ситуация нереализованных своевременно возможностей.
К примеру сказать, наряду с традиционными для естествознания стратегиями на наших глазах формируется принципиально новая стратегия - коэволю-ционная, которая лишь по видимости является продолжением эволюционистской стратегии, в действительности же идея коэволюции может выступить источником совершенно новой парадигмы и новой эпистемологии естествознания. следовательно, в своих предельных основаниях может явиться новой философией природы. Именно установка на идею коэволюции как основополагающий принцип новой натурфилософии и является важнейшей особенностью и неотъемлемой частью постнеклассической науки и современной философии науки.
Использование идеи коэволюции природы и общества, природы и человека (идеи, биологической по своему происхождению, но приобретшей в современном мире универсальный характер, статус «коэволюционного императива», охватывающего в том числе и все стороны духовной жизни человека) позволяет выдвинуть не только новые теоретические основания философии природы, но и осуществить переосмысление всего научного знания на основе «натурализованной эпистемологии», способной преодолеть трудности классической естественнонаучной эпистемологии.
Тем самым коэволюционная стратегия предполагает формирование новой эпистемологической системы, системы, которая позволяла бы описывать природные и социальные процессы как процессы природно-социальные в глобально-эволюционном контексте, поскольку поставленные на повестку дня проблемы современной науки - не только биологии, но и физики, химии, технических наук - ведут к представлению о биосферном уровне жизнедеятельности человека.