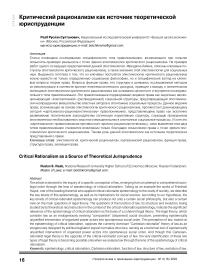Критический рационализм как источник теоретической юриспруденции
Автор: Рааб Р. С.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (16), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию специфического типа правопонимания, возникающего при попытке осмыслить правовую реальность с точки зрения эпистемологии критического рационализма. На примере работ одного из ведущих представителей данной эпистемологии, Фридриха Хайека, описаны ключевые постулаты эпистемологии критического рационализма, а также значение этой эпистемологии для социальных наук. Выдвинута гипотеза о том, что из ключевых постулатов эпистемологии критического рационализма можно вывести не только определенную социальную философию, но и специфический взгляд на ключевые вопросы теории права. Вопросы функции права, его структуры и динамики, исследованные методом их реконструкции в контексте критико-эпистемологического дискурса, приводят к выводу о значительном потенциале эпистемологии критического рационализма как основания целостного и внутренне последовательного типа правопонимания. Это правопонимание подразумевает видение права как эндогенно эволюционирующей «композитивной» (распределенной) социальной структуры, предотвращающей эпистемически неоправданное вмешательство властных акторов в спонтанные социальные процессы. Данное видение права, возникающее на основе эпистемологии критического рационализма, противостоит доминирующему сегодня «картезианско-рационалистическому» правопониманию, представляющему право как экзогенно развиваемую политическим законодателем логическую нормативную структуру, служащую проводником эпистемически необоснованного властного вмешательства в спонтанные социальные процессы. И хотя это «картезианское» правопонимание противостоит «критико-рационалистическому», само выявление этих двух типов правопонимания становится возможным только благодаря осмыслению права с точки зрения эпистемологии критического рационализма. Такова роль данной эпистемологии как источника теоретических представлений о праве.
Эпистемология, критический рационализм, картезианский рационализм, функция права, структура права, эволюция права
Короткий адрес: https://sciup.org/14128051
IDR: 14128051
Текст научной статьи Критический рационализм как источник теоретической юриспруденции
СТАТ Ь И
Вопрос о типологии правопонимания — один из ключевых в теоретической юриспруденции. В отечественной науке он разработан довольно хорошо. Основной мотив большинства исследований в области типологии правопо-нимания заключается в четком разделении двух типов понимания права — естественно-правового и позитивист-ского1. Безусловно, к этому простому разделению все исследования не сводятся. В рамках этого разделения развиваются более тонкие и интересные концепции. И все же основа типологии правопонимания заключается в четком разделении естественно-правовых и позитивистских подходов к пониманию права.
В нашем исследовании мы ни в коем случае не оспариваем и не умаляем значение данного различения. Но нельзя не отметить, что с данным подходом сопряжены некоторые трудности.
Во-первых, не всегда удается достаточно четко определить, к какому типу правопонимания относится то или иное правовое учение. Казалось бы, исследования ведутся уже давно, но ясность до сих пор присутствует не везде.
Во-вторых, не всегда понятно, что именно дает нам вывод об отнесении того или иного учения о праве к тому или иному типу. Очень хорошо это заметно на примере работ Герберта Харта, который, в сущности, признал, что юридический позитивизм во многом проявляется в определенном употреблении термина «право». В остальном же это словоупотребление не мешает предъявлять к праву некоторые требования, с которыми, по-видимому, согласятся представители «естественного права»2. О некоем минимальном содержании естественного права писал и сам Харт. Из такого дискурса рождаются более нюансированные типологии «строгого позитивизма», полностью исключающего все естественно-правовое, «менее строгого позитивизма», допускающего определенное количество естественного права и т. д. Происходит размывание четких границ, заставляющее, в конце концов, задаться вопросом о том, насколько надежны и обоснованы сами принципы этого разграничения, как много они могут нам дать в интеллектуальном плане. Здесь можно высказать немало аргументов за и против, но отрицать наличие трудностей невозможно.
На фоне такого положения дел вызывают интерес попытки некоторых теоретиков права выйти за рамки традиционных типологий правопонимания и прямо или косвенно сформулировать свою собственную типологию. Одним из таких теоретиков является известный социальный философ и по совместительству правовед Фридрих Август фон Хайек.
Пусть Хайек и известен скорее как экономист, его вклад в философию права широко признан3. В основе его философии права лежит определенная эпистемология — эпистемология «критического рационализма»4. Она определяет ключевые аспекты теории права Хайека5. Отметим, что данная эпистемология получила развитие не только в работах Хайека, но и в трудах ряда других авторов6. Поэтому здесь мы можем опираться на целую интеллектуальную традицию. В рамках данной статьи мы сосредоточимся на исследованиях Хайека как автора, который наиболее непосредственным образом применил эпистемологию критического рационализма при исследовании философии права7. Есть основания полагать, что описанная в его работах типология правопонимания, исходящая не из традиционных представлений о естественном и позитивном праве, а из определенных идей критического рационализма,
СТАТ Ь И
может представлять интерес для правовой науки. Чтобы проверить эту гипотезу, мы попробуем реконструировать теоретико-правовые идеи Хайека, основанные на философии критического рационализма.
Эпистемология критического рационализма
Чтобы рассмотреть эту критико-рационалистическую типологию правопонимания, нам потребуется предварительно разъяснить, в чем именно заключается эпистемология критического рационализма. В самом первом приближении метод критического рационализма заключается в довольно скептической оценке возможностей человеческого разума, а также в системном рассмотрении человеческой деятельности и социальной жизни сквозь призму этих неизбежно присущих человеку эпистемологических ограничений. Более подробное изложение метода критического рационализма подразумевает раскрытие конкретных ограничений человеческого познания.
Ключевым из них, конечно же, является тезис о существенной ограниченности человеческого знания в отношении сложных социальных процессов. Современные социальные процессы состоят из непознаваемого для человека количества сложнейших социальных фактов, которые постоянно претерпевают непредсказуемые и неуправляемые изменения. Знать даже малую часть этой социальной информации никому не под силу8. Это во-первых.
Во-вторых, даже то знание о сложных социальных фактах, которое все же доступно человеческим существам, крайне дисперсно распределено между великим множеством никак не связанных друг с другом отдельных индивидов. Каждый индивид владеет лишь небольшой «частичкой» информации, необходимой для понимания полной картины социальных процессов9.
В-третьих, даже эта небольшая «частичка» знания, доступная отдельному индивиду, далеко не всегда осознается им в ясной и четко коммуницируемой форме10. Большая часть информации, образующей познавательные способности человека, представляет собой ту или иную разновидность «имплицитного знания», которое, подобно некоему практическому навыку или интуитивному чутью предпринимателя, невозможно сформулировать в словах, но можно лишь спонтанно практиковать по мере попадания субъекта восприятия в конкретные ситуации.
Помимо этих трех тезисов об ограниченности человеческого познания теория критического рационализма содержит немало других представлений, отражающих непростую эпистемическую ситуацию человека. Дело ведь не только в том, что знания социальных акторов ограничены, дисперсно распределены и не вполне осознаваемы, что делает невозможным их надежную передачу от одного человека к другому. Существенная часть важной социальной информации относится к так называемому знанию времени и места, которое сохраняет свою актуальность лишь очень короткое время. Если не использовать это знание в нужный момент, оно просто обесценится. Немалую трудность составляет и вопрос об отделении достоверного знания от недостоверного. Здесь критический рационализм также описывает трудности, возникающие при определении достоверности социальной информации, а также раскрывает институциональные условия11, при которых эта оценка становится возможной.
Таково вкратце общее представление о социологически значимых аспектах эпистемологии критического рационализма. Данной эпистемологии, основанной на признании ограниченности, распределенности и неявном характере значительной части человеческого знания, противостоит эпистемология, в чем-то прямо противоположная критической — эпистемология «картезианского рационализма»12.
В отличие от критической эпистемология картезианского рационализма основана не на скептической, но, наоборот, на сверхоптимистической оценке возможностей человеческого познания. Данная эпистемология не уделяет достаточного внимания фактам ограниченности, дисперсной распределенности и неявности человеческого знания, полагая, что все наиболее существенное знание о сложном социальном порядке можно собрать в едином центре принятия решений и выработать на основе этого знания некий план рациональной организации общества. Кто-то из картезианских рационалистов допускает разумное социальное планирование в большей степени, кто-то в меньшей. Так или иначе все представители картезианского рационализма объединяются во мнении, что рациональное социальное управление возможно и желательно, а имеющихся познавательных способностей людей и их организаций достаточно, чтобы такое планирование осуществлять13. Таково наиболее общее представление об эпистемологии картезианского рационализма, в противостоянии с которой родилась эпистемология рационализма критического.
Важнейшим следствием противостояния этих двух теорий познания является появление двух противостоящих друг другу взглядов на общество14. Понимание проблем социального порядка зависит от понимания познавательных возможностей социальных акторов, поэтому вполне закономерно, что различные подходы к оценке этих возможностей породили различные взгляды на природу общества.
СТАТ Ь И
Первый взгляд на природу социального порядка, о котором необходимо в этой связи сказать, это взгляд картезианского рационализма. Главной характерной чертой данного взгляда является представление о возможности полностью рационального конструирования социальной реальности согласно заранее продуманному плану. В основе данного представления лежит уже упомянутое нами картезианское рассуждение о возможности собрать всю необходимую информацию о сложном обществе в едином центре принятия решений и силами человеческого ума создать на основе этой информации план разумного социального порядка. Такой рационально сконструированный порядок является социальным идеалом картезианского рационализма, излишне оптимистичного в отношении возможностей человеческого ума.
Совсем иначе выглядит второй подход к осмыслению социального порядка — подход, основанный на идеях критического рационализма. Не испытывая оптимизма по поводу возможностей человеческого разума и отрицая его способность собрать всю необходимую информацию об обществе в едином центре принятия решений, а равно способность человеческого ума создать сколько-нибудь рациональный план социального управления на основе этой информации, критический рационализм сразу отсекает возможность полностью рационального конструирования сложной социальной системы15. Отказ от централизованного социального планирования — главная черта «критического» взгляда на общество как противоположного картезианскому.
В противовес картезианскому централизованному планированию критический подход выдвигает радикально иную идею, а именно идею децентрализации и спонтанной самоорганизации общества. Данная идея не просто противопоставляется картезианскому планированию как невозможному по причине эпистемологических ограничений, но разрабатывается таким образом, чтобы учесть описанные в рамках критического рационализма факты ограниченности, дисперсной распределенности и «неявности» человеческого знания.
Хорошей иллюстрацией этому служит развитая в рамках методологии критического рационализма теория социальных институтов. Согласно данной теории главная задача социальных институтов заключается в том, чтобы скоординировать такое количество дисперсно распределенных знаний и умений, какое невозможно скоординировать централизованным путем16. Иначе говоря, создать более сложный и эффективный социальный порядок, чем тот, который возникает благодаря централизованному управлению.
Главным примером такого более сложного порядка Хайек считал саморегулирующийся рынок. То количество распределенных знаний и умений, которое координируется в рамках спонтанного рыночного порядка горизонтальных взаимодействий, невозможно скоординировать в ходе всеобъемлющего центрального планирования. В этом смысле рынок информационно превосходит любую спланированную организацию. А все потому, что рыночные институты, главным из которых является механизм свободно формирующихся рыночных цен, оказываются своеобразной «информационной системой»17, автоматической обратной связи. Благодаря сигналам этой системы — ценовым колебаниям — индивиды как носители взаимодополняющих «частичек» распределенных знаний достаточно быстро обретают понимание того, что именно они должны сделать, чтобы их знания оказались скоординированными со знаниями и умениями миллионов других рыночных акторов в конкретный момент времени.
Не будь ценовых сигналов, такая всеобъемлющая координация никогда бы не возникла. Скоординировать такое количество индивидуальных действий из единого центра невозможно. А вот через децентрализованную систему ценовых сигналов — вполне. Здесь и сейчас мы не можем в подробностях описать механизм этих сигналов. Тут лучше обратиться к первоисточнику18. Для нас главное — зафиксировать, что подобного рода теория социальных институтов как сигнальных механизмов координации сложного порядка возникла в силу потребности объяснить социальный порядок с точки зрения теории дисперсно распределенного знания, состоящего из множества взаимодополняющих «частичек», коими владеют миллионы непосредственно не связанных друг с другом людей19. Так, понимание природы человеческого знания, сформированное в рамках критического рационализма, привело к определенному взгляду на природу социальных институтов.
Но что еще более важно, различные эпистемологические парадигмы порождают не только различные парадигмы социальной теории, но и различные типы социальной практики. Для Хайека этот аспект наиболее важен. Именно
СТАТ Ь И
наблюдение за крайне опасными и поистине губительными для человечества социальными практиками XX в. заставило его задуматься о проблемах социальной теории и эпистемологии.
По мнению ученого, излишне самонадеянная теория познания сыграла не последнюю роль в цепочке событий, завершившихся ужасами войн и тоталитаризма. Нетрудно заметить, что сама по себе идея тоталитаризма, предполагающая тотальный контроль над каждым членом общества, так или иначе основана на допущении эффективности такого контроля. На том, что такой контроль совместим с рациональной и эффективной организацией социального порядка. Сегодня мы знаем, что тотальный контроль над личностью несовместим с эффективным социальным порядком. Что он ведет лишь к его тотальной примитивизации и деградации. Однако до того, как это знание было выстрадано ценой жизни миллионов людей, оно вовсе не казалось очевидным. Наоборот, очевидным было то, что только такой тотальный контроль может сделать социальный порядок эффективным и рациональным. А все потому, что люди верили в возможность централизованной организации общества, основанной на достаточной полноте имеющейся информации.
Наивная иллюзия этой «достаточной полноты», всякий раз приводящая к ошибкам и трагедиям, — результат чрезмерного влияния картезианского рационализма, поразившего умы политиков гордыней человеческого всезнания. Только избавив умы от этой гордыни с помощью эпистемологии критического рационализма, Хайек считал возможным остановить тоталитарные практики социального управления. Отсюда значимость критической эпистемологии не только для науки, но и в целом для всей цивилизации.
Особенно важна эта критическая эпистемология для такого аспекта цивилизации, как правовые институты. Хайек постоянно подчеркивал, что тот упадок правовых институтов и правового мышления, который мы наблюдаем в условиях современности, имеет ту же природу, что и прочие социальные катаклизмы XX в. — ложную теорию позна-ния20. Сначала эта ложная теория захватила социальные исследования, главным образом — социологию21, а затем, посредством той же «прогрессивной социологии», проникла в сознание юристов.
Под влиянием конструктивистской социологии сознание юристов претерпело существенные перемены. Многие правоведы перестали22 видеть свою задачу в том, чтобы внимательно наблюдать за спонтанно функционирующим социальным порядком и пытаться описать те правила поведения, которые делают этот социальный порядок возможным, составляют его «здравый смысл». Вопреки своей изначальной миссии, они решили, что им необходимо сначала социологически вообразить желательный образ общества23, а затем законодательно сконструировать такие правила государственного контроля над личностью, которые сделают этот заранее запланированный социальный порядок возможным24.
Сама по себе идея такого целенаправленного усовершенствования отдельных социальных институтов не отрицается Хайеком. Иногда это в высшей степени необходимо25. Ученый лишь подчеркивает, что излишнее увлечение рациональным конструированием законодательства отвлекло правоведов от миссии понимания правил спонтанного порядка, которую, в силу владения определенными приемами юридического мышления, могут выполнить лишь они.
Пренебрегая мышлением и воображением в терминах спонтанно возникающего децентрализованного порядка, основанного на скоординированном использовании гораздо большего числа распределенных знаний, чем те, что могут быть скоординированы в рамках централизованной организации, юристы начали создавать такие правовые идеи, которые актуальны не для спонтанных, но для централизованных и поэтому a priori более примитивных социальных порядков26.
Стоит ли говорить, что не всегда уместный перенос этих более примитивных законодательных схем на сложную социальную реальность, тренированное юридическое восприятие которой было утрачено из-за увлечения прогрессивными социологическими трактатами, нанесло этой сложной децентрализованной реальности определенный ущерб. Имея в виду исправление этого практического ущерба, Хайек призвал обратиться к критической эпистемологии не только экономистов и социологов, но и правоведов27. Как итог, наряду с двумя типами социальной философии, различение критической и картезианской эпистемологии породило и два типа философии права — критическую и картезианскую. Представляется небесполезным рассмотреть эти типы философии права подробнее.
Две парадигмы правопонимания
СТАТ Ь И
Подобно тому, как различение критического и картезианского рационализма породило два типа социальной философии с точки зрения теории Хайека, в области теоретической юриспруденции «хайековская» методология также пришла к различению двух типов понимания права. С некоторой долей условности мы позволим себе различить эти типы понимания права как критический и картезианский соответственно тому, какая эпистемология лежит в основе каждого из данных типов.
Если в случае социальной философии разные типы эпистемологии привели к принципиально разному взгляду на то, каким образом должна происходить социальная координация — спонтанно либо же централизованно, — то в случае с типами правопонимания различия эпистемологических установок привели к различному взгляду на происхождение правил поведения, их функцию, структуру и динамику. Поэтому для понимания того, в чем именно состоит смысл различения критических и картезианских типов понимания права, необходимо проанализировать, как эти различные эпистемологические подходы влияют на понимание всех вышеприведенных философско-правовых вопросов.
Поскольку, по мнению Хайека, именно картезианский тип понимания права является наиболее общепринятым и доминирующим в современную эпоху, будет правильным начать анализ его эпистемологической типологии правопонимания именно с картезианской юриспруденции.
В чем проявляются типологические характеристики понимания права, основанного на эпистемологии картезианского рационализма?
Во-первых, это определенный образ мышления относительно происхождения права. Картезианский подход в большей степени, чем критический, склонен видеть происхождение права как результат сознательного изобретения. Сознание человека достаточно сильно, чтобы целенаправленно сконструировать целостную систему норм для общества. То, что не создается сознательным и целенаправленным путем, определяется либо как «недоразвитое» право, либо вообще правом не считается.
Во-вторых, это определенное представление о функции права. Право в зеркале картезианской методологии рассматривается как один из инструментов разумного управления обществом. Разум человека вполне способен управлять социальной эволюцией, а право является важнейшим инструментом такого рода управления. Сначала принимается решение о том, каким общество должно быть, и затем создается система правовых норм, которая позволяет реализовать это решение.
В-третьих, это представление о структуре права. Структура права мыслится как сугубо логическая структура, по аналогии с тем, как устроены структуры эксплицитного человеческого мышления. В конце концов, именно рациональное мышление является источником права. Связи между отдельными нормами — это в первую очередь смысловые, логические связи.
В-четвертых, это представление о путях развития права. Развитие права мыслится как целенаправленный процесс, отвечающий социально-управленческой функции права и обеспечиваемый законодательными актами. Таковы вкратце некоторые характерные черты картезианского подхода к праву.
В целом логика этого подхода нам хорошо известна, поскольку мышление большинства современных правоведов укоренено именно в нем. Помимо названных можно выделить и другие аспекты картезианского пра-вопонимания, связанные, например, с недоверием к «традиционным» источникам права наподобие обычаев и прецедентов либо же с представлениями о возможности достаточно полного выражения правовых смыслов в официальных текстах. Однако полностью перечислять их мы не будем. Уже приведенные типологические характеристики, как кажется, достаточны для формирования примерного представления о сути картезианского правопонимания.
Как и в случае с социальной теорией, существо картезианской философии права покоится на довольно оптимистичном восприятии человеческого познания и его возможностей. Разум человека мыслится как пространство, в котором он полностью владеет ситуацией, может представить все необходимые составляющие этой ситуации ясно и отчетливо, может свободно складывать эти составляющие в некие рациональные конструкции по своей воле и т. д.
Аналогичным образом целостные теоретические представления о происхождении, функционировании, структуре и динамике права формируются под влиянием идей критической эпистемологии. Для такой «критической» парадигмы правопонимания характерны следующие черты.
СТАТ Ь И
Во-первых, это касается вопроса происхождения права. Критический подход постоянно сомневается в возможности возникновения сколько-нибудь надежных правовых систем путем их осознанного изобретения28. Чтобы целенаправленно сконструировать правовую систему для сложного социального порядка, необходимо обладать таким количеством информации, которое никогда не будет доступно ни одному, даже самому мудрому законодателю.
Даже судьи, которые сознательно подходят к делу формулирования правовых предложений, не изобретают их согласно свободному соизволению. Профессиональное мышление судей детерминировано структурами правовой традиции таким образом, что сами судьи, как носители этого мышления, выступают не его «свободными творцами», но скорее заложниками устоявшихся сцеплений его структур. Идея мышления как пространства воли и свободы — идея сугубо картезианская. Критико-рационалистическая теория понимает мышление прямо противоположным образом — как не зависящий от воли субъекта когнитивный автоматизм, над которым сам субъект (в данном случае судья) не имеет значительной «волевой» власти. Он не может усилием воли заставить себя считать одни поступки справедливыми, а другие — нет. Мнение о справедливости поступка возникает у судьи вследствие его включенности в социальный опыт сообщества полноправных граждан, чьи свободные публичные суждения о правильном порождают актуальный для данного социального порядка правовой смысл. Этот смысл по итогу длительного соблюдения и юридической обработки превращается в объективное чувство права, присущее судье и существующее независимо от его желаний.
Поэтому с точки зрения критического рационализма более правильно утверждать, что не судья говорит от имени права, но что само право как бы говорит через судью как коммуникативного посредника, наиболее восприимчивого к его «голосу»29. Обладая тренированной восприимчивостью, судья открывает право как сложившийся социальный факт, а не изобретает его произвольным образом. Это первый момент, существенно отличающий критическую теорию права от картезианской.
Во-вторых, критический подход совсем иначе видит функцию права в обществе. Право это не инструмент управления обществом для приведения общества в соответствие с неким заранее задуманным планом, а система ограничений на управленческие действия по его сознательному переустройству. Право призвано сдерживать социальные изменения, последствия которых в силу ограниченности знаний мы не можем заранее просчитать, а также смягчать ущерб от тех социальных изменений, которые любое общество неизбежно претерпевает. Это механизм предотвращения и исправления ошибок, а не инструмент реформ. Любая реформа, поскольку она не имеет в виду полное разрушение порядка, должна реализовываться в лоне этого механизма, обретающего в силу всего вышеописанного особую надполитическую природу.
Политика как целенаправленная деятельность, основанная на знании , противопоставляется праву как институтам, учитывающим фактор отсутствия знания . И чем больше мы осознаем глубину нашего незнания благодаря влиянию критического рационализма, тем лучше понимаем главенствующую роль права как «искусства неведения» по сравнению с эпистемически самоуверенной политической деятельностью. В этом плане критический взгляд на право прямо противоположен картезианскому, лишающему право собственной сущности и отождествляющему этот институт с «всезнающей» политикой. И хотя критическое понимание права не сводится к этой «страхующей» функции, данная функция, пожалуй, составляет наиболее яркую антикарте-зианскую черту этого подхода. Такова вторая черта правопонимания, основанного на критическом рационализме.
В-третьих, критический метод совсем иначе мыслит структуру права. Структура права есть не логическая, а «композитивная» социальная структура. Такая структура предполагает, что ее отдельные элементы — отдельные нормы права — связаны не логическими или иного рода концептуально-смысловыми связями, а такими связями, которые с некоторой долей условности можно назвать «координационно-практическими».
Координационно-практические связи норм заключаются в хорошей скоординированности конкретных социальных последствий, вызванных приверженностью индивидов данным нормам в тех или иных ситуациях . Если социальный порядок хорошо функционирует, значит, и его нормы хорошо скоординированы. И наоборот — только в случае распада социальной координации имеет смысл ставить вопрос о нескоординированности или плохой совместимости тех или иных норм.
Сам по себе вывод о том, что между некими правилами существуют смысловые нестыковки или логические противоречия, вовсе не свидетельствует о том, что эти нормы нуждаются в исправлении. Более того, попытка собрать все эти нормы и обработать их так, чтобы они стали логически стройной системой, может не только не улучшить, но в ряде случаев даже ухудшить процесс социальной координации.
Вполне вероятно, что дискурсивная нелогичность вербальных формулировок норм (в социальной практике к этим формулировкам не сводимых) не мешает отдельным индивидам следовать этим нормам таким образом и в таких ситуациях , при которых непреднамеренные последствия их действий оказываются достаточно
«логичными» с точки зрения координации социального порядка как непознаваемого целого30. Так или иначе, координация социального порядка зависит не только от норм, но и от конкретных фактов, в контексте которых данные нормы реализуются. Фактов этих великое множество, никому не дано исчерпывающе познать их эксплицитно-логическим путем. Любая логическая конструкция будет примитивнее этих фактов. Поэтому неудивительно, что сложившиеся социальные нормы, как ограниченные интеллектуальные средства, ориентирующие человека в этой логически непостижимой картине , подчас и сами кажутся «нелогичными».
СТАТ Ь И
В общем, логическая совместимость вербально сформулированных правил не является самоценностью и полезна лишь тогда, когда может улучшить координационно-практическую структуру правовых норм, теоретически возможную и без их формально-логической согласованности. Это третий момент, ярко отличающий критический подход от картезианского.
В-четвертых, критический подход совершенно иначе представляет себе пути развития правовой структуры. В противовес картезианскому подходу, видящему развитие права через его сознательное изменение в свете рационально сконструированных внешних целей и расчетов, критический подход видит развитие права как его внутреннюю эндогенную эволюцию в свете имманентно присущих праву ценностей и принципов. Здесь большее внимание уделяется не законодательным актам, но обычаям и судебной практике. Через них, по логике критического рационализма, право и осуществляет свою эндогенную эволюцию, автономно развивается «изнутри».
Основным принципом этой эволюции является механизм «имманентной критики»31, предполагающий пересмотр более конкретных элементов нормативной системы с точки зрения ее более абстрактных элементов. Словом, систематический пересмотр конкретных норм в свете контекстуально взаимовзвешенных общих принципов, благодаря которому система правил становится более когерентной с точки зрения собственных фундаментальных оснований.
В качестве наглядного примера такой имманентной критики права можно привести отказ отцеубийце в праве на наследство. С одной стороны, есть конкретная норма о наследовании от отца к сыну, с другой — есть более общий принцип недопустимости выгоды от совершенного преступления. Очевидно, что убийца отца, ускорив процесс получения причитающегося по закону наследства от родителя, получит выгоду преступным путем. Отсюда и определенного рода противоречие между нормой о наследовании и фундаментальным принципом права. Это противоречие можно решить по-разному.
Например, прогрессивно-социологически, когда мы, конечно, осуждаем убийство, но считаем, что с точки зрения социального прогресса ограничивать распределение благ от «старых и богатых» к «бедным и молодым» не стоит. Тогда норма о наследовании будет применена несмотря на преступление. Но если мы откажемся от внешних по отношению к праву идей и посмотрим на ситуацию с позиции внутренней правовой логики, реализуем метод «имманентной критики права», то придем к противоположному выводу. К признанию обязательной нормы о недопустимости наследования для отцеубийцы.
Эта новая для правовой системы норма родится в силу того, что в ходе имманентной критики права осуществляется процедура взвешивания значимости отдельных правовых принципов, результат которой будет состоять в признании принципа недопустимости выгоды от преступления более фундаментальным правовым принципом по сравнению с другими принципами, нормами или идеологическими соображениями.
Чем больше правовая система будет корректироваться и дополняться подобным образом, тем более внутренне согласованной она будет. Тем в большей степени можно будет сказать, что право развивается не через его целенаправленное изменение в угоду внешним по отношению к нему идеологическим целям, но согласно объективной внутренней логике его собственных абстрактных принципов.
Органами этой эндогенной эволюции права являются не политические законодатели, а разного рода децентрализованные точки правового развития — суды, комиссии по разрешению споров и т. д. В этих точках механизм имманентной критики задействуется не ради логического упражнения, но ради разрешения конкретного конфликта как симптома нарушенной координации. Практическое восстановление координации указывает на правильное применение логической операции имманентной критики. Здесь мы снова возвращаемся к тому, что в сложной для
СТАТ Ь И
познания социальной системе развитие права может идти только методом проб и ошибок. Интеллектуальная процедура имманентной критики — лишь «рефлексивный» этап этого процесса. За ним следует этап практической апробации нового правила, результаты которого выступают конечным критерием для оценки нового правила как совместимого с существующим корпусом права.
Приведенный нами пример имманентной критики является довольно простым и не отражает всех нюансов этого метода. Но в общем и целом дает понять, о чем идет речь. Таков четвертый момент «критического» юридического взгляда, отрицающего развитие права согласно внешним по отношению к праву идеям и признающего объективную эволюцию права согласно его собственной внутренней логике.
Как и в случае с картезианским подходом, критический подход не сводится к этим четырем характерным чертам. Из приведенных нами базовых рассуждений можно вывести много других интересных размышлений о праве, его сущности, структуре и эволюции, которые позволят выявить четкое типологическое различие между картезианским и критическим типами правопонимания. Различия эти доходят до такой степени, что на определенном этапе могут способствовать появлению двух принципиально различных языков юридической теории.
Так, в языке картезианской юриспруденции, по крайней мере в наиболее радикальных его версиях, абсолютно бессмысленными будут такие слова и выражения как «открытие права» (право всегда создается), «имплицитные правила» (существуют только правила, выраженные средствами языка), «имманентная цель права» (у права не может быть имманентно присущих ему целей, оно лишь инструмент) и т. д. С другой стороны, в языке критической юриспруденции лишены смысла такие выражения, как «суверен»32, «опережающее правовое регулирование» (право всегда открывается как уже сложившийся социальный факт), «закон как источник права» (выраженная в тексте субъективная воля автора не может быть источником права) и т. д., поскольку они описывают вещи, труднопредставимые с точки зрения эпистемологии критического рационализма.
В этом смысле антиномичность языков критической и картезианской юриспруденции в философии права Хайека в каком-то смысле повторяет антиномичность критических и картезианских языков социальной философии, в которых картезианская идея воли (will) как основы социального порядка противопоставлена критико-философской идее суждения (opinion) как источника права и социального поведения33; в которых идея централизованной организации (Taxis) противопоставлена понятию децентрализованного спонтанного порядка (Kosmos). Так что дихотомия между картезианским и критическим подходами к праву проходит не только по линии каких-то конкретных представлений о тех или иных аспектах права, но и в целом отражает существование двух различных языков описания социально-правовой реальности.
На первый взгляд может сложиться впечатление, что артикулированное Хайеком различие критической и картезианской юриспруденции есть лишь вариация на тему позитивного и естественного права. Частично это действительно так. Естественное право, как и критическое правоведение Хайека, рассуждает об открытии предсуществую-щего права, а позитивное право, следуя логике картезианского воображения, рассуждает о праве как проявлении воли суверена. Известное сходство налицо.
И все же сам Хайек не считает, что его рассуждения повторяют логику естественного и позитивного права. С его точки зрения, само это различение не имеет особого смысла, поскольку и позитивисты, и юснатуралисты, несмотря на различия, очень часто становятся на путь одной и той же картезианской методологии, ведя право к одному и тому же типу «картезианской деградации» с точки зрения сложного социального порядка. Так что спорить о различении естественного и позитивного права, по его мнению, смысла нет. С точки зрения проблем цивилизации именно эпистемологическое различие двух типов понимания права — картезианского и критического — играет существенное значение. Таков взгляд Хайека на проблему правопонимания, который возникает из его эпистемологии критического рационализма. Как показало наше исследование, эта эпистемология может служить полноценным источником теоретических представлений о происхождении права, его структуре и функциях.
Заключение
Завершая наше рассуждение об эпистемологии критического рационализма как источнике теоретических представлений о праве (приведенное с опорой на работы известного экономиста и обществоведа Фридриха Августа фон Хайека), можно сделать вывод, что данная эпистемология действительно может быть использована для формулирования целостного типа правопонимания, отвечающего на ключевые вопросы теоретического правоведения. Такие вопросы, как вопрос о функции права, его структуре и динамике, получают в рамках эпистемологии критического рационализма вполне определенные ответы. Эти ответы обладают внутренним теоретическим единством, позволяющим рассматривать их как последовательную систему правовых воззрений, а в каком-то смысле даже и как определенный язык теоретического описания правовой реальности. В рамках данного языка описания право представляется как эндогенно эволюционирующая «композитивная» (распределенная) социальная структура, предотвращающая эпистемически неоправданное вмешательство властных акторов в спонтанные социальные процессы. Данное представление находится в оппозиции к доминирующему сегодня теоретико-правовому дискурсу, который с точки зрения эпистемологии критического рационализма также может быть описан в виде целостной системы взглядов. Эта система взглядов подразумевает понимание права как экзогенно развиваемой политическим законодателем логической нормативной структуры, служащей проводником эпистемически необоснованного властного вмешательства в спонтанные социальные процессы. Данная система взглядов так же, как и «критическое правопонимание», получает привязку к определенной эпистемологии, а именно эпистемологии картезианского рационализма — теории познания, противопоставленной рационализму критическому. И хотя в данном случае мы имеем дело с совершенно другой эпистемологией, нежели эпистемология критического рационализма, тем не менее само осмысление этой «картезианской» эпистемологии, а равно того типа доминирующего в наши дни правопонимания, который из нее возникает, становится возможным лишь благодаря эпистемологии критического рационализма как источнику теоретических размышлений о праве.
СТАТ Ь И
Список литературы Критический рационализм как источник теоретической юриспруденции
- Гофман А. Б. Традиция, солидарность и социологическая теория. М.: Новый хронограф, 2015. 496 с.
- История политических и правовых учений / под общ. ред О. В. Мартышина. М.: Проспект, 2016. 800 с.
- Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. М.: Прометей, 1999. 419 с.
- Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М.: Прогресс, 1985. 344 с.
- Поппер К. Вся жизнь — решение проблем. О познании, истории и политике. Ч. 2. М.: URSS: ЛЕНАНД, 2019. 225 с.
- ХартГ. Понятие права. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. 300 с.
- Barry N. P. Hayek's Social and Economic Philosophy. London: MacMillan Publishing Company, 1979. 228 p.
- HayekF. A. Competition as a Discovery Procedure. The Market and Other Orders. Chicago: The University of Chicago Press, 2014. P. 304-313.
- HayekF. A. Law, Legislation and Liberty. Vol. 1. Rules and order. London: Routledge, 1982. 145 p.
- HayekF. A. Law, Legislation and Liberty. Vol. 2. The mirage of social justice. London: Routledge, 1982. 153 p.
- Hayek F. A. The Errors of Constructivism. The Market and Other Orders. Chicago: The University of Chicago Press, 2014. P. 338-356.
- HayekF. A. Kinds of Rationalism. The Market and Other Orders. Chicago: The University of Chicago Press, 2014. P. 3953.
- HayekF. A. The Pretence of Knowledge. The Market and Other Orders. Chicago: The University of Chicago Press, 2014. P. 362-372.
- Hayek F. A. The Results of Human Action but not of Human Design. The Market and Other Orders. Chicago: The University of Chicago Press, 2014. P. 293-303.
- HayekF. A. The Use of Knowledge in Society. The Market and Other Orders. Chicago: The University of Chicago Press, 2014. P. 93-104.
- Leggio L. Law and Legislation in Hayek's Legal Philosophy. Journal de Economistes Et des Etudes Humaines. 1994. No. 5. P. 165-188.
- MillerE. F. Hayek's the Constitution of Liberty. London: The Institute of Economic Affairs, 2010. 187 p.
- Shearmur J. Hayek's Politics. The Cambridge Companion to Hayek / Ed. by E. Feser. New-York: Cambridge University Press, 2007. P. 148-170.