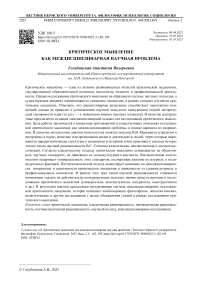Критическое мышление как междисциплинарная научная проблема
Автор: Голубинская А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (62), 2025 года.
Бесплатный доступ
Критическое мышление — одна из активно развивающихся областей практической педагогики, государственной образовательной политики, психологии личности и профессиональной деятельности. Однако исследования критического мышления не образовали систему научных подходов, а существующие решения ограничиваются указанием дисциплин, в рамках которых изучается критическое мышление. Отмечено, что дисциплинарное разделение способствует накоплению концепций, однако не приводит к установлению научной дискуссии, конкуренции теорий, исторической сменяемости идей (то есть — к появлению именно научных подходов). В качестве альтернативы предлагается создание междисциплинарной основы для исследований критического мышления. Цель работы заключается в выявлении противоречий в существующих описаниях исследований критического мышления как междисциплинарной проблемы и поиске варианта их разрешения. В качестве методологии анализа используется понятие подхода В.В. Мацкевича (стратегии и программы в науке, политике или организации жизни и деятельности людей, через которые выражаются парадигматические структуры и механизмы в познании и/или практике) и система исторических типов научной рациональности В.С. Степина (классическая, неклассическая и постнеклассическая). Согласно классическому подходу критическое мышление основывается на объективных, научных стандартах, не зависящих от социокультурного контекста. Неклассическая эпистемология оспаривает универсальность этих стандартов, подчеркивая влияние культурных и индивидуальных факторов. Постнеклассический подход акцентирует внимание на междисциплинарности, плюрализме и адаптивности критического мышления в зависимости от социокультурных и профессиональных контекстов. В рамках этих трех типов научной рациональности становится возможным указать на действительно конкурирующие подходы, неявно присутствующие в исследованиях критического мышления (универсализм, контекстуализм, натурализм, конструктивизм и др.). В результате анализа предложена трехуровневая система междисциплинарных исследований критического мышления, которая позволяет комбинировать философские, психологические, педагогические и другие исследования с целью объединения усилий в рамках исследования критического мышления.
Критическое мышление, классическая рациональность, неклассическая рациональность, постнеклассическая рациональность, научный подход, междисциплинарные исследования
Короткий адрес: https://sciup.org/147250987
IDR: 147250987 | УДК: 168.5 | DOI: 10.17072/2078-7898/2025-2-182-195
Текст научной статьи Критическое мышление как междисциплинарная научная проблема
Received: 08.04.2025 Accepted: 10.05.2025
Введение, или проблема демаркации критического мышления
Критическое мышление, как известно, является одним из ключевых навыков XXI в. и одним из центральных компонентов образовательной концепции современности, выступая одновременно и как прикладной навык, и как культурная компетенция [Гиринский А.А. и др., 2022]. Это связано с разными факторами — ростом количества информации, повседневно окружающей человека, изменениями в системе обще- ства и с ценностями педагогики ускоряющегося мира в целом. Несмотря на то, что критическое мышление активно развивается как учебная дисциплина, как научная проблема оно не имеет достаточной дисциплинарной поддержки. Утверждая это, мы имеем в виду, что вопрос о дисциплинарной принадлежности, теоретических основах и методологических программах исследования критического мышления не только не имеет очевидного ответа, но даже ставится довольно редко.
К какой научной дисциплине принадлежат исследования критического мышления? Ответить на этот вопрос довольно трудно, потому что понятие критического мышления (в любой из существующих вариаций) относится к нескольким фундаментальным областям познания. С одной стороны, критическое мышление по определению относится к классу проблем о мышлении. Мышление как таковое является одним из центральных понятий психологии, в рамках которой исследуются закономерности функционирования психических процессов. С точки зрения психологии критическое мышление — это один из когнитивных процессов, а точнее — метакогнитивных процессов, которые направлены на оценку собственного мышления.
С другой стороны, психология может описать только то, как люди мыслят, но в ее задачи не входит установление стандартов того, какое именно мышление полагается правильным и критическим. Это помещает проблему в область философии, а точнее — эпистемологии. Если критический мыслитель — это тот, кто способен отслеживать обоснованность своих убеждений, то каковы критерии обоснованного выводы? Откуда берутся эти критерии и как они сами по себе обоснованы? Как следует определять, какая из причин является веской и достаточной, чтобы считать вывод обоснованным? Эти вопросы являются центральными для эпистемологии.
Затем, стоит оговориться, что было бы ошибкой утверждать, что современный человек в своих рассуждениях руководствуется только научным знанием [Бажанов В.А., 2024]. Исследования критического мышления связаны в равной мере как со стандартами рассуждения, так и с социальными факторами когнитивной культуры людей, что связывает критическое мышление с когнитивной антропологией.
На практике же теоретические и эмпирические исследования в области критического мышления существуют в сфере наук об образовании. Здесь возникает дидактическая и методическая интерпретация проблемы: может ли критическое мышление быть целью обучения в контексте проектирования образовательного процесса (дидактика), какие методы и приемы позволяют оценивать и стимулировать его динамику (методика). Можно назвать парадоксальным тот факт, что научные разработки в области ди- дактики и методики обучения критическому мышлению «опережают» необходимую теоретическую работу. Еще более необычным является тот факт, что это состояние научной проблемы критического мышления сохраняется уже несколько десятилетий: еще в 1987 г.
Дж. Фоллман высказал опасения о том, что концепции о том, как научить студентов мыслить критически, развиваются в отрыве от концепций о том, что такое критическое мышление: «Если консенсус не будет достигнут, то возникнет множество различных определений, и этот поток определений, мер и методов приведет к концептуальному хаосу такого масштаба, что исключит любое систематическое обучение критическому мышлению» [Follman J., 1987, p. 135–136]. В
2025 г. можно сказать, что прогноз Фоллмана в некотором смысле сбылся: попытки систематизировать существующие дисциплинарные подходы к критическому мышлению оставляют больше вопросов, чем ответов, что является одним из основных сюжетов данной статьи. Признавая ценность каждого из них, нельзя не отметить тот факт, что современному состоянию научной проблемы критического мышления самой по себе требуется серьезная критическая диагностика. Достичь эту цель в рамках одной статьи, скорее всего, невозможно, поэтому цель данной работы более скромная — указать на серьезные противоречия в существующих описаниях критического мышления как междисциплинарной проблемы и предложить вариант их разрешения.
Проблема подходов к критическому мышлению в современной отечественной науке
Несмотря на высказанное ранее наблюдение об очевидной принадлежности критического мышления к нескольким фундаментальным областям познания, существующие взгляды на проблему сложно назвать междисциплинарными. Более того, дисциплинарное разграничение выступает основным (если не единственным) способом описания этой области научных исследований. К примеру, Н.А. Калашникова отмечает, что все исследования критического мышления осуществляются в рамках нескольких подходов, среди которых указаны философский, когнитивный, педагогико-психологический и прикладной [Калашникова Н.А., 2013, с. 128]. Из этого опи- сания следует, что когнитивный и педагогикопсихологический подходы являются независимыми как друг от друга (хотя грань между когнитивным и психологическим не является столь строгой), так и от прикладного (хотя и когнитивные, и педагогико-психологические исследования, как правило, являются прикладными).
Э.В. Барбашина указала на 4 подхода к критическому мышлению: философский, психологический, педагогический и медийный [Барба-шина Э.В., 2022]. Философский подход выражается в создании образа идеального критического мыслителя, «высоких стандартах, оптимальном способе, наилучшем варианте» критического образа мышления, в доминировании формально-логических операций и правил рассуждения. Особенности психологического подхода «вытекают из более общего понимания человека как существа, у которого интеллектуальные процессы оказывают влияние на его поведение» [Барбашина Э.В., 2022, с. 125]. Педагогический подход занимается «решением вопросов, связанных с определением конкретных методов обучения критическому мышлению и способов проверки результатов» [Барбаши-на Э.В., 2022, с. 120]. Медийный подход заключается в обращении к критическому мышлению в контексте доминирования работы с информацией: ее сбора, анализа, систематизации и верификации [Барбашина Э.В., 2022, с. 124–126]. Это один из самых развернутых опытов систематизации наук о критическом мышлении, но и в нем можно найти некоторые противоречия. Например, можно ли быть представителем медийного подхода, при этом не являясь представителем какого-то еще из указанных подходов? Скорее всего, нет, поскольку работа медийного характера может представлять собой частный случай педагогического, психологического или философского исследования. Отдельный вопрос касается того, насколько справедлива с научной и исторической точки зрения практика приравнивания философского подхода к критическому мышлению с формальной логикой. Обращаясь к истории науки о критическом мышлении, можно обнаружить, что идея критического мышления как социальной ценности возникает не столько в русле логики, сколько в русле критики ее эффективности в образовании [Informal logic…, 1980; Siegel H., 1988;
Johnson R.H., 2000; Ennis R., 2011]. Критическое мышление в современном понимании имеет гораздо больше общего именно с неформальной логикой. Помимо этого, в рамках философии кажется возможным говорить отдельно о логическом, этическом, социальнофилософском, эпистемологическом подходе к критическому мышлению, — т.е. «стандарты, оптимальные способы, наилучшие варианты» критического мышления безусловно относятся к философии, но имеют не только логическое выражение.
К.В. Тарасова и Е.А. Орел выделяют философский, педагогический и психологический подходы. Представители первого «сходятся во мнении, что о наличии критического мышления можно судить по способности человека принять рациональное, осознанное решение о том, что делать или чему верить» [Тарасова К.В., Орел Е.А., 2022, с. 191]. Основные качества критического мышления в рамках философского подхода — это обоснованность суждений, целенаправленность мыслительных процессов, рефлексия субъекта и следование правилам формальной логики. Педагогический подход авторы проиллюстрировали через концепции последовательности развития критического мышления на разных этапах обучения, а суть психологического подхода определили «в изучении протекания мыслительных процессов и поведения критически мыслящего субъекта в действительности, а не в идеальных условиях» [Тарасова К.В., Орел Е.А., 2022, с. 193]. В статье авторы обращаются к идеям многих авторов, которых можно назвать классиками исследований критического мышления, но при этом поместить их в предложенную систему оказывается затруднительно. К примеру, является ли Дьюи представителем психологического подхода, потому что разработал концепцию этапов рефлексивного мышления? Не следует ли его как одного из авторов прагматической теории обоснования истины и участника знаменитых дебатов о природе знания с Б. Расселом также отнести к философскому подходу? Авторы отмечают, что идеи Дьюи «легли в основу разработок таксономий учебных целей, включающих критическое мышление и его отдельные компоненты» [Тарасова К.В., Орел Е.А., 2022, с. 192], что делает его также и представителем педагогического подхода. Справедливо отме- чено, что для достижения лучших результатов кажется верным сочетать философский и психологический подходы. Эту мысль, на наш взгляд, можно высказать даже более смелым образом: не сочетать эти подходы невозможно, поскольку изучение того, как развивать критическое мышление, требует хоть какого-нибудь ответа на вопрос о том, каким образом квалифицировать мышление как критичное. Если это так, то можно предложить еще один (весьма провокационный) вопрос: являются ли обсуждаемые в современной литературе подходы к критическому мышлению действительно подходами в научно-методологическом смысле?
Подход — это термин, которым обозначают способ изучать какое-то одно определенное явление. В.В. Мацкевич описывает научный подход как «комплекс парадигматических, синтагматических и прагматических структур и механизмов в познании и/или практике, характеризующий конкурирующие между собой (или исторически сменяющие друг друга) стратегии и программы в философии, науке, политике или в организации жизни и деятельности людей» [Мацкевич В.В., 1998, с. 526]. Однако даже краткий обзор подходов к критическому мышлению показывает, что они не являются ни конкурирующими, ни исторически сменяющими друг друга. Педагогическое выявление конкретных методов обучения критическому мышлению и философское определение стандартов не просто не конкурируют, а взаимно зависят друг от друга, и в отрыве друг от друга теряют собственную значимость: в одном случае определяется предмет измерения, в другом — метод. Точно так же, как медицинские науки включают в себя, например, анатомию и флебологию, а не анатомический и флебологический подход к здоровью, исследования критического мышления включают в себя разные дисциплины, которые не конкурируют и не сменяют друг друга по той причине, что обращены к разным элементам системы.
Что в таком случае является «подходом» в исследованиях критического мышления? На наш взгляд, критическое мышление — это относительная категория, содержание которой устанавливается в зависимости от доминирующего типа рациональности. В.С. Степин указал на три типа такой рациональности [Степин В.С., 2009], каждый из которых отражается в том, как концептуализируется научная проблема: классический, неклассический и постнеклассический. Если применить эту концепцию к исследованиям критического мышления, становится заметно, что в этой области сосуществуют конкурирующие стратегии и исследовательские программы, которые не являются результатом демаркации наук.
Критическое мышление в рамках классической научной рациональности
Эта установка соответствует большинству концепций о критическом мышлении, которые ориентированы на описание конечного набора навыков (склонностей, способностей, черт характера) критического мыслителя. Таковой является модель Р. Энниса, включающая склонности оценивать достоверность источников, определять выводы, причины и допущения; оценивать качество аргумента, включая приемлемость его причин, предположений и доказательств и так далее [Ennis R., 1991]. К этой же области относятся психолого-педагогические модели критического мышления Д. Халперн [Halpern D.F., 1998; Halpern D.F., Sternberg R.J., 2020], М. Липмана [Lipman M., 2003], фило- софско-психологическая модель Ричарда Пола и Линды Элдер [Paul R., Elder L., 2008], дельфийская модель [Facione P.A., 1990], модель Р. Барнетта [Barnett R., 2015], Д. Хитчкока [Hitchcock D., 2018], а также педагогическая модель, представленная в 2020 г. Австралийским советом по исследованиям образования [Heard J. et al., 2020]. Все эти модели исходят из идентичных предпосылок.
Первая предпосылка заключается в том, что существует набор универсальных стандартов для рассуждения, которые идентичны как для экспертов, так и для неэкспертных мыслителей. Модели критического мышления отражают принципы научного познания и устанавливают примат науки над какими-либо другими формами знания. Например, каждая из упомянутых моделей содержит в себе способность оценивать утверждения и проверять гипотезы таким способом, каким это делается в науке (т.е. по образцу, который безоговорочно принят как правильный).
Вторая предпосылка подразумевает, что существует способ превращения имеющихся стандартов рассуждения в привычки, которыми каждый человек может руководствоваться в повседневной жизни. Это означает, что навыки критического мышления развиваются независимо от предметных знаний и представляют собой отдельную категорию интеллектуальной деятельности человека.
Следовательно, общий вопрос, следующий из этих двух посылок и характеризующий классический взгляд на критическое мышление, направлен на то, какими средствами и процедурами можно привить и укрепить экспертные методы работы с информацией в неэкспертной познавательной деятельности. Этот вопрос может быть рассмотрен с позиций классической эпистемологии (экспертные методы познания), когнитивной психологии (обработка информации), педагогики (средства обучения и закрепления навыков) и других областей.
Неклассический взгляд на проблему критического мышления
По утверждению В.А. Лекторского, неклассическая эпистемология скорректировала классическую по части того, что «познание не может начаться с нуля» [Лекторский В.А., 2001, с. 109], — т.е. она ставит под сомнение само су- ществование универсальных методов познания, которые очищены от какого-либо влияния социального и когнитивного контекста. Если человек вписан в определенную культуру и традицию, в специфику профессиональной деятельности, в закономерности работы когнитивных механизмов, то «начать с нуля» нельзя. «Очищение» познания от индивидуальных и культурных эффектов выступает не как условие критического мышления, а как отделение человека от своего культурного и социального микрокосма, от ценностей, сформировавших его мышление.
Следуя аналогичным установкам, Дж. Мак-пек утверждал, что не существует универсального критического мышления, а многочисленные списки навыков лишь создают иллюзию системности того, что невозможно ни обосновать, ни проверить. Макпек придерживался другого (на наш взгляд, как раз неклассического) взгляда, утверждая, что нет оснований считать тот или иной навык критического мышления универсальным, поскольку решение, являющееся критическим по отношению к одной задаче, не обязательно сохранит будет таким же по отношению к другой. С этой точки зрения, обучать критическому мышлению «целиком» невозможно, потому что не существует обобщенного навыка, который называется критическим мышлением. Точно так же, как не существует мышления вообще, а существует только мышление о чем-то, критичность привязана к конкретным предметам и видам деятельности [McPeck J.E., 1981, 1990].
Другой пример неклассического взгляда на критическое мышление можно найти в исследованиях Х. Сигеля. Поскольку само понятие критического мышления является оценочным и нормативным, то правильное, «хорошее» мышление не может существовать в природе независимо от культуры. Таким образом, назвать человека критически мыслящим означает сказать, что его способ мышления соответствует существующим в конкретный момент истории стандартам или критериям познания [Bailin S., Siegel H., 2003]. Эти стандарты меняются во времени, и нет оснований полагать, что современные нормы не будут пересмотрены следующими поколениями (в философии этот принцип известен под названием дилеммы теоретика [Firt E. et al., 2021]). «Должный образ» рассуждений всегда зависит от ситуации как гло- бально (эпоха, культура), так и локально (текущие обстоятельства). Более того, поскольку одна из задач обучения критическому мышлению — это формирование коллективных взглядов и интеллектуальных обязательств людей [Siegel H., 1980], оно не бывает лишено политического содержания.
Неклассический взгляд на критическое мышление подразумевает, что там, где классическая научная рациональность не является доминирующей, не являются доминирующими и классические модели критического мышления. Это действительно так. К примеру, Р. Сокбесон, исследуя современную когнитивную культуру индейских сообществ северо-восточной территории США, оставляет такие пояснения: «Развитие критического мышления у детей вабанаки ведет к пониманию ценностей истории и восприятию истории о сотворении мира не как мифа или легенды, а как объяснения нашего происхождения» [Sockbeson R., 2017, p. 15]. Никаких отсылок к наукоподобному способу проверки гипотез в таких определениях нет. Для культур, построенных на традиционных эпистемологических идеалах, критическое мышление становится способом противостоять «насильственному подавлению определенных способов познания или обоснования знаний», а именно — той самой рациональности, которая в классической модели выступает безоговорочным образцом [Christie M., Asmar C., 2021; Correa Muñoz M.E., Saldarriaga Grisales D.C., 2014; Steger M.B., 2016]. Методы критического мышления, ранее позиционировавшиеся как универсальные, здесь становятся только одной из множества частностей, продвигаемых в связи с интересами общественных движений и политическими проектами [Steger M.B., 2016, p. 32]. С этих же позиций Дж. МакГирк приходит к выводу, что «мыслить критически — это не долг перед самим собой, а долг перед теми другими, кто исключен доминирующими нарративами и репрезентациями реальности, которые ложно претендуют на универсальный нормативный статус» [McGuirk J., 2021, p. 610].
Такие интерпретации критического мышления встречаются в странах, где особо заметны дискуссии о противостоянии локальных и глобальных культур, — Канады [An indigenous knowledge…, 2020], Австралии [Chirgwin S.K., Huijser H., 2015], США [Inoue Y., 2005], стра- нах южной Азии [Nyeu M.T., 2020] и Латинской Америки [García Franco A. et al., 2022]. Учитывая мультикультурность населения России, вполне вероятно, что в ближайшем будущем эти вопросы встанут и в отечественной науке. Пока что подобных примеров в российской академической среде нам не удалось обнаружить, хотя, следует отметить, что некоторые исследователи все же поднимают близкие к этому вопросы. Например, И.Н. Петракова отмечает, что идеалы критического мышления не соответствуют текущим представлениям о состоянии науки. Если дать адекватную оценку обоснованности тех или иных интерпретаций научных фактов не сможет даже эксперт из смежной области, странно ждать этого от тех, кто вообще не занимается наукой [Петракова И.Н., 2021, с. 193].
Неклассический взгляд на критическое мышление также объединен общими предпосылками. Во-первых, что содержание критического мышления определяется контекстом познавательной ситуации (следовательно, универсальных навыков критического мышления принципиально не может быть). Во-вторых, что критическое мышление в большей степени относится к области текущих ценностей конкретного общества, возникающих на разных уровнях социального взаимодействия. Несмотря на то, что неклассические предпосылки кардинально меняют видение проблемы, основной исследовательский вопрос можно оставить без существенных изменений: какими средствами и процедурами можно привить и укрепить критическое мышление в неэкспертных практиках рассуждениях — в том виде, в каком оно соответствует данному сообществу? Спектр наук заметно расширяется: к философии, психологии и педагогике добавляются социология, политология, антропология.
Постнеклассический взгляд на критическое мышление
В оригинальном изложении концепции постнеклассической рациональности В.С. Степина ключевыми отличиями постнеклассики были описание объекта исследования как сложной самоорганизуемой системы, представления об окружающей среде как акторе, интеграция элементов морального анализа в систему оценки научного знания, междисциплинарность как следствие сложной системной природы объекта исследования [Степин В.С., 2013]. С.А. Лебедев дополняет это уточнением, что в ядре постнеклассической рациональности содержится принцип плюрализма [Лебедев С.А., 2019, с. 18]. Утверждение, что постнеклассика отличается междисциплинарным взаимодействием, в котором ведущая роль принадлежит философии, разделяет И.Т. Касавин [Касавин И.Т., 2013, с. 490]. С.И. Платонова отмечает, что синтез оппозиций и интеграция разных уровней анализа, которые представляют собой основной ориентир постнеклассики, проявляются в росте эмпирических исследований существующей научной практики [Платонова С.И., 2012]. Несмотря на то, что потребность в термине «постнеклассика» остается предметом спора [Никифоров А.Л., 2013; Печенкин А.А., 2020], эти описания точно воспроизводят представленное в данной статье рассуждение. Разделение философских, психологических, педагогических, антропологических и прочих практик исследования критического мышления становится слишком условным и возникает в пределах методологии, но не в отношении объекта исследований.
Создание междисциплинарных форм научного знания в целом является одной из характерных для науки XXI в. практик. В англоязычной академической литературе можно часто встретить названия областей науки, помеченных как « x -исследования», где под x подставляется предмет: memory studies, trauma studies, media studies, intertnet studies и многое другое. Дисциплинарная принадлежность таких областей довольно расплывчата, к примеру, science studies — исследования науки — объединяют социологов, историков, экономистов, политологов, философов и антропологов [Аршинов В.И., 2010, с. 89], и вопрос об иерархии в данном случае не ставится. Изложенные выше наблюдения позволяют предположить, что современные исследования критического мышления представляют собой аналогичную систему.
В представленных выше направлениях, формирующих предпосылки для междисциплинарных исследований критического мышления, прослеживается несколько уровней: дескриптивный, нормативный и методологический. Дескриптивный уровень предполагает поиск ответа на вопрос о том, что представляет собой критическое мышление. Целью таких ис- следований является описание природы критического мышления, в том числе его функций, вариаций, закономерностей его развития, отношений с внешними и внутренними факторами. На нормативном уровне фундаментальный вопрос о том, как возможно критическое мышление, решается методом моделирования: как оно возможно в целом, безотносительно наблюдаемых в конкретных людях проявлений? Иными словами, какое из толкований критического мышления представляет наибольшую ценность в текущих реалиях? Эта проблематика, в частности, была отмечена у К.В. Тарасовой и Е.А. Орел, хотя мы предлагаем не связывать данные исследования исключительно с философскими дисциплинами. Например, стандарты образования, в которых отмечается критическое мышление, являются нормативными, но не имеют отношения к философским интерпретациям проблемы.
Если на дескриптивном уровне решается проблема о том, что такое критическое мышление, а на нормативном — каким оно должно быть, то остается методологическая область, в которой поднимается вопрос о способах приведения первого ко второму. Практически все дебаты, развернувшиеся в современной педагогике, можно отнести к исследованиям методологического уровня, к примеру, о том, переносятся ли навыки критического мышления на новые задачи автоматически или требуют предварительной практики [Dumitru D., 2012; Arum R., Roksa J., 2011], и должны ли знания о критическом мышлении предшествовать практике его применения [Поздняков М.В., 2023; Arisoy B., Aybek B., 2021].
Наконец, на каждом из этих уровней становится возможным указать на конкурирующие подходы. Например, на дескриптивном уровне конкуренцию создают натуралистические и конструктивистские толкования критического мышления. С точки зрения натурализма, все процессы, которые мы связываем с критическим мышлением, являются частью естественного развития человека: способности оперировать знаковыми системами, создавать ментальные модели и схемы и т.д. Это означает, что описание критического мышления может быть ограничено описанием внутренних ментальных процессов (например, выполнением логических процедур). В рамках такого подхода становятся важны исследования критического мышления как автономного процесса (например, влияние медитации на критичность рассуждений [Noone C. et al., 2016]). Конструктивизм, напротив, утверждает, что критическое мышление — это результат культурного творчества, а не проявление естественного процесса, оно зависит от информационной среды или, к примеру, политического ландшафта конкретной ситуации рассуждения. На нормативном уровне конкурирующими подходами являются универсализм (нормы критического мышления универсальны для всех ситуаций) и контекстуализм (нормы критического мышления являются контекстнозависимыми). Подходы методологического уровня отражают проблемные области техники обучения критическому мышлению (к примеру, о том, является ли обучение критическому мышлению более эффективным в виде специализированных курсов или в рамках предметных дисциплин [Поздняков М.В., 2023]).
Таким образом, конкурентность подходов обеспечивается их взаимной несовместимостью: на вопрос «Можно ли составить конечный список навыков критического мышления?» универсализм предполагает положительный ответ, а контекстуализм — отрицательный. Дело здесь не столько в научной номенклатуре, сколько в логических следствиях каждого из подхода: только в первом возможны стандартизированная оценка, масштабирование образовательных программ и учебных курсов, и только во втором — нестандартные решения задач, адаптивность в условиях неопределенности и связанность критического мышления с предметным содержанием профессиональной деятельности. С позиций универсализма критическое мышление нечувствительно ни к социокультурным, ни к дисциплинарным различиям, следовательно, является универсальным языком обсуждения проблем. С позиций контек-стуализма критическое мышление «привязано» к нюансам профессиональной культуры, открыто к смене точки зрения, к осознанию ограничения своих аргументов и возможности альтернативных позиций. В конце концов, существование критического мышления как общеобразовательной учебной дисциплины оправдано только с позиций универсализма, в то время как контекстуализм делает невозможным совместное освоение навыков критического мышления студентами разных специальностей.
Заключение
Обсуждение демаркации исследований критического мышления и возможности преобразования этой области в организованную междисциплинарную проблему имеют значимость не только в виде частного случая философских исследований современной науки. Как было отмечено Фоллманом, существует некоторая закономерность в том, как неорганизованность исследовательской работы стимулирует появление новых концепций, методов и мер, которые парадоксальным образом не способствуют науке, а отдаляют нас от исходной цели (системного понимания проблемы). На наш взгляд, это также связано с отсутствием внутренней научной коммуникации в области: научный спор — это способ развития знания, без которого концептуальные идеи, как удачные, так и не очень, остаются идеями одного автора, но научный спор невозможен там, где нет противоречий.
Судя по всему, критическое мышление с самого начала было междисциплинарной проблемой, в связи с чем дисциплинарные подходы (философский, психологический, педагогический и проч.) не сменяют друг друга исторически и не конкурируют между собой в настоящем. Предложенная в статье точка зрения на три подхода к критическому мышлению, выведенная по образцу исторических типов научной рациональности В.С. Степина, делает спорные вопросы более заметными: является ли критическое мышление универсальным или контекстным, глобальным или локальным, автономным или предметно-зависимым. По сравнению с существующими решениями, предложенная точка зрения имеет два отличия. Во-первых, выбор подхода не требует от исследователя выстраивать иерархию между философскими, психологическими, антропологическими или какими-либо еще знаниями по проблеме, а позволяет комбинировать их как равноценные. Во-вторых, вместо указания на дисциплинарные границы проблемы, она выдвигает на передний план те области исследований, которые являются неоднозначными, следовательно, заслуживающими отдельных дискуссий.
Выражение признательности
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 24-28-
00809 «Critical thinking studies: фундаментальное исследование критического мышления как междисциплинарной проблемы»).
Acknowledgements
The work was funded with a grant from the Russian Science Foundation (project no. 24-2800809 «Critical thinking studies: fundamental research on critical thinking as an interdisciplinary problem»).