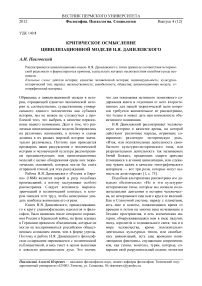Критическое осмысление цивилизационной модели Н. Я. Данилевского
Автор: Павловский Алексей Игоревич
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (12), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается цивилизационная модель Н.Я. Данилевского с точки зрения ее соответствия исторической реальности и формулируются причины, в результате которых несоответствия подобного рода возникали.
Деятели истории, единство человеческой истории, индивидуальность, культурно-исторический тип, народы, насильственность, самобытность, общества, цивилизационная модель, этнографический материал
Короткий адрес: https://sciup.org/147202862
IDR: 147202862 | УДК: 140.8
Текст научной статьи Критическое осмысление цивилизационной модели Н. Я. Данилевского
Обращаясь к цивилизационной модели в истории, отрицающей единство человеческой истории и, соответственно, существование универсального единого человечества как субъекта истории, мы не можем не столкнуться с проблемой того, что выбрать в качестве первоосновы нашего понимания. Дело в том, что различные цивилизационные модели базировались на различных основаниях, а потому и схемы деления в их рамках мировой истории значительно различались. Поэтому нам приходится предварять наши рассуждения о человеческой истории и человеческой культуре рассмотрением предшествующих нам цивилизационных моделей с целью обнаружения среди них теоретических оснований, которые могли бы стать отправной точкой для этих рассуждений.
Работа Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» (1868) является первой в ряду подобных произведений, а потому заслуживает особого рассмотрения. Следует вспомнить мировоззренческий и политический контекст, в котором писался этот труд, чтобы немедленно увидеть наиболее вопиющие его огрехи.
Книга Н.Я. Данилевского, принадлежавшего к кругу славянофильских идеологов и философов, была написана после позорного поражения России в Крымской войне, на фоне идущих в Германии процессов объединения, которые не могли не восприниматься российским общественным сознанием иначе, чем в форме угрозы. Поэтому в работе Н.Я. Данилевского философское содержание перемежается с политической публицистикой, и весь текст в целом выполнен в довольно реваншистском духе. Это значит, что для понимания истинного позитивного содержания книги и отделения от него второстепенных для нашей теоретической цели вопросов требуется внимательное ее рассмотрение, что только и может дать нам возможность объективного понимания.
Н.Я. Данилевский рассматривает человеческую историю в качестве арены, на которой действуют различные народы, играющие совершенно различную историческую роль. «Итак, или положительная деятельность самобытного культурно-исторического типа, или разрушительная деятельность так называемых бичей Божьих, предающих смерти дряхлые (томящиеся в агонии) цивилизации, или служение чужим целям в качестве этнографического материала — вот три роли, которые могут выпасть на долю народа» [1, с. 75].
Подобная альтернатива рассмотрена им довольно обстоятельно: «Но и эти культурноисторические типы, которые мы назвали положительными деятелями в истории человечества, не исчерпывают еще всего круга ее явлений. Как в Солнечной системе, наряду с планетами, есть еще и кометы, появляющиеся время от времени и потом на многие века исчезающие в безднах пространства, и есть космическая материя, обнаруживающаяся нам в виде падучих звезд, аэролитов и зодиакального света; так и в мире человечества, кроме положительнодеятельных культурных типов, или самобытных цивилизаций, есть еще временно появляющиеся феномены, смущающие современников, как гунны, монголы, турки, которые, совершив свой разрушительный подвиг, помогши
испустить дух борющимся со смертью цивилизациям и разнеся их остатки, скрываются в прежнее ничтожество. Назовем их отрицательными деятелями человечества. Иногда, впрочем, и зиждительная, и разрушительная роль достается тому же племени, как это было с германцами и аравитянами. Наконец, есть племена, которым (потому ли, что самобытность их прекращается в чрезвычайно ранний период их развития, или по другим причинам) не суждено ни зиждительного, ни разрушительного величия — ни положительной, ни отрицательной исторической роли. Они составляют лишь этнографический материал, то есть как бы неорганическое вещество, входящее в состав исторических организмов — культурноисторических типов; они, без сомнения, увеличивают собой разнообразие и богатство их, но сами не достигают до исторической индивидуальности» [1, с. 75].
Оставим пока в стороне разговор о положительных деятелях истории. Начнем с этнографического материала. Не совсем понятно, что подразумевает в этом отрывке Н.Я. Данилевский под «самобытностью» и «индивидуальностью» по отношению к племенам, которые, как он утверждает, не играют роли в истории. Традиционно «самобытность» и «индивидуальность» в подобном смысле принято понимать как наличие совокупности сущностной культурной специфики, отличающей один культурный организм от другого. Но в этом смысле «самобытными» и «индивидуальными» являются не только все без исключения народы, но и некоторые устойчивые субкультурные группы внутри одного народа.
Поэтому очевидно, что Н.Я. Данилевский употребляет эти термины в каком-то другом смысле, говоря, по сути, об индивидуальности и самобытности созданных этими народами цивилизаций. Но в этом смысле говорить об их самобытности и индивидуальности нельзя, так как если они не создали никакой цивилизации, то эта их несуществующая цивилизация по определению не может быть ни индивидуальной, ни самобытной.
По сути дела, в подобной постановке вопроса проявляется убеждение Н.Я. Данилевского о том, что индивидуальность и самобытность народа выражаются им только в соответствующей цивилизации. Но это, очевидно, не так. Скорее наоборот, объединяя многие народы в рамках единого организационного целого, цивилизация неизбежно уменьшает индивидуальность и самобытность каждого конкретного народа, усредняет их.
Показательно в этой связи и его фактическое признание, что народы, не создавшие собственной цивилизации, не сыграли никакой исторической роли. Это означает, что Н.Я. Данилевский признает в качестве осуществления исторической роли только деятельность народов в форме цивилизации, т.е. для него мировая история — это история цивилизаций на фоне нецивилизованной, этнографической «материи». Но данный тезис сам по себе может быть построен только на основании утверждения о качественном преимуществе цивилизованного общества как такового над диким обществом как таковым, т.е. все на той же концепции общественного прогресса.
Но очевидно, что само по себе дикое общество не является чем-то однозначно худшим по отношению к цивилизованному, хотя последнее и является более сложной формой организации людей. При переходе от дикости к цивилизации человек многое приобрел, но многое и потерял, так как проблемы его бытия в обществе несоизмеримо выросли. При колонизации европейцами Северной Америки их встретили нецивилизованные индейские племена, но вопрос о том, было ли бытие этих племен хуже последующего цивилизованного бытия на этом же месте переселенцев, отнюдь не так однозначен.
Существует еще один аргумент, который важнейшим образом противостоит тезису Н.Я. Данилевского, согласно которому требуется классифицировать культурноисторическую специфику по «цивилизациям». Сам Н.Я. Данилевский пишет: «Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группою языков, довольно близких между собою для того, чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий, — составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества» [1, с. 77]. Это первый закон исторического развития по Данилевскому. Но в истории зачастую случалось, что общность народов, характеризуемых очевидно близкими языками, не вовлекалась в рамки единой цивилизации. Это относится как к китайской, так и к многим из перечисленных Н.Я. Данилевским ближневосточным цивилизациям. Получалось, что только часть про- странства, охваченная родственными языками и родственными народами, составляла единый культурно-исторический тип, а остальные родственные народы оставались на положении этнографического материала. Но это подводит нас непосредственно к мысли о том, что культурно-историческая специфика проявляется не только на уровне отдельных цивилизаций, но и на уровне нецивилизованных народов, причем в отдельные культурно-исторические общности могут входить как позитивные исторические деятели, так и родственный им «этнографический материал». Это, в свою очередь, означает, что нужно прослеживать деление человечества не на отдельные цивилизации, а на отдельные культурные пространства, объединяющие родственные по менталитету народы вне зависимости от уровня их развития, и вот уже в рамках этих пространств выделять отдельные цивилизации, границы которых могут не совпадать с границами ареалов.
Но если отказаться от абсолютизации значения цивилизации для культуры, свойственной Н.Я. Данилевскому, то его деление на деятельные народы и «этнографический материал» вообще потеряет смысл. Тем более, если учесть, что сам мыслитель не мог четко сформулировать принципиального различия в духовном плане цивилизованных и диких народов, «самобытность» и «индивидуальность» здесь, как было показано выше, не проходят. Приходится утверждать, что выход из пассивного состояния «этнографического материала» связан всегда с особыми историческими причинами, которые и ответственны за возникновение самобытной цивилизации, а вовсе не собственные качества создающих цивилизацию народов.
Кроме того, строго говоря, Н.Я. Данилевский не ограничивает статус «этнографического материала» рамками диких народов, он присваивает его и народам, оставшимся на развалинах цивилизации. «Иногда нисходят на эту ступень этнографического материала умершие и разложившиеся культурноисторические типы в ожидании, пока новый формационный (образовательный) принцип опять не соединит их в смеси с другими элементами в новый исторический организм, не воззовет к самостоятельной исторической жизни в форме нового культурно-исторического типа» [1, с. 75]. Иными словами, культурное пространство мира представляет общий пассивный исторический фон, на котором прояв- ляются отдельные цивилизации, но который разделен на культурные ареалы до этого циви-лизациеобразования, а потому и культурную специфику народов нужно искать не в их цивилизации, а до нее.
Таким образом, разделение народов на деятельных и этнографический материал скорее описывает их историческое состояние, а не их культурную сущность, а потому не может быть признано принципиальным и основополагающим.
Еще более странно выглядит деление деятельных народов на созидательные и разрушительные. Да, гунны не стали создателями новой цивилизации, но назвать их народом-разрушителем в строгом смысле этого слова тоже невозможно, так как не они уничтожили Римскую империю. Римская империя пережила набег гуннов и погибла под ударами варварских германских племен. Осмелюсь выдвинуть тезис: народы не могут уничтожить иную цивилизацию чисто разрушительным порывом. Это связано с тем, что любое чистое разрушение общественных институтов временно, эти институты в виде представления о них остаются в сознании людей, которые остаются жить на территории, подвергнутой разрушению, а потому в условиях, когда на смену общественным институтам не приходят новые, старые институты воспроизводятся на прежнем месте.
Гунны не создали новых институтов на территории поверженной Римской империи, они остались кочевниками, и империя устояла. Монголы же и турки, приведенные Н.Я. Данилевским в качестве двух других примеров, действительно, выступили в роли исторических разрушителей агонизирующих цивилизаций, но они одновременно являлись и созидателями.
Империя Чингисхана (1202–1227) была одним из величайших государственных образований средневековой истории. «Империя монголов, основанная Чингисханом, — высшая форма степной цивилизации» [2, с. 58]. «К моменту своей смерти Чингисхан правил державой, раскинувшейся от Аральского до Желтого моря. Она в два раза превышала по площади римскую, а империю Александра Македонского — в четыре» [2, с. 60]. «За семьдесят лет его наследники увеличили империю почти в три раза…» [2, с. 60]. «Завоевания Чингисхана перевернули историю Китая, России, стран Средней Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы. Восстановленные после разгрома ирри- гационные системы находились под защитой монголов. Были установлены принципиально новые правила торговли, а главное, открылись для нее новые возможности… Улучшилось управление и установился строгий порядок во взимании налогов. Но главное — монголам впервые удалось соединить Запад и Восток Евразии в единое относительно мирное пространство, обеспечив на нем безопасность и быстроту передвижения» [2, с. 64]. Одним словом, монголы внесли свою лепту в мировую историю, они создали принципиально новую политико-социальную реальность, государства нового типа, не похожие ни на что существовавшее ранее, они принесли стабильность на завоеванные земли (уже одно это не согласуется с представлением о них как «сугубо разрушителях»), они обеспечили созидательное, прогрессивное существование большинства завоеванных им территорий.
То же самое касается и турок-османов. Оттоманская Порта просуществовала гораздо меньше времени, чем на тех же землях Византийская империя, но Порте удалось оказать значительное культурное воздействие на все государства региона и вдохнуть новую жизнь в угасавшую исламскую цивилизацию. Уничтожив Византию, турки продлили существование арабского мусульманского общества Ближнего Востока, обеспечив ему своеобразный «серебряный век».
Да, ни монголы, ни турки не создали своей уникальной цивилизации, но может быть, позитивная историческая миссия заключается не только в этом, может быть, созидать в истории можно и по-другому?
Ответ на этот вопрос станет нам понятным, если мы, наконец, перечислим список самобытных культурно-исторических типов, ставших, по Н.Я. Данилевскому, позитивными деятелями истории. «Эти культурно-исторические типы, или самобытные цивилизации, расположенные в хронологическом порядке, суть:
1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилоно-финикийский, халдейский или древне-семитический, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) новосемитический, или аравийский и 10) германороманский, или европейский. К ним можно еще, пожалуй, причислить два американских типа — мексиканский и перуанский, погибшие насильственной смертью и не успевшие совершить своего развития» [1, с. 74].
Уже одна эта схема наводит нас на размышления о непонятности исторической периодизации Н.Я. Данилевского.
В этом списке упущено множество обществ, обладавших явной исторической самобытностью и не сводимых к перечисленным цивилизациям. Здесь отсутствует Византия, которая не была продолжением Римской империи, и в то же время она не может быть отнесена к европейской цивилизации. Здесь отсутствуют Блистательная Порта и государство монголов, как это уже было отмечено ранее.
Здесь отсутствуют несколько веков русской истории (от Киевской Руси до Петра I (1682– 1725)). Н.Я. Данилевский пишет, что самобытный славянский культурноисторический тип еще только формируется, в то время как в предшествующем периоде русской истории мы видим очевидные признаки расцвета. Кем тогда были, хочется спросить, русские в период Киевской и Московской Руси? Этнографическим материалом? Из логики построений Н.Я. Данилевского следует именно так. Но какую цивилизацию они создали? Или это, вообще, была не цивилизация, а придаток Европы или несуществующей (по ДНа.Ян.иДлеавнсиклоемвус)кивийзаннатзиыйвсакеотйдцвиевиалмиезраицкиаин?-ские цивилизации, но почему-то пропускает цивилизацию майя, которая была не менее развитой, чем ацтекская и инкская. Он игнорирует тот факт (когда говорит о насильственной смерти американских цивилизаций), что в момент вторжения испанцев в Мексику ацтекская цивилизация уже находилась в упадке и стремительно катилась к гибели, что испанцев поддержали бунтующие против безжалостной власти ацтеков покоренные ими индейские племена, что и привело Ф. Кортеса к победе. Следовательно, не о преждевременной гибели идет речь, испанцы тут исполнили роль «бича Божия» в полном смысле этого слова.
Н.Я. Данилевский явно несоразмерно рассматривает историю Ближнего Востока и Европы. Все многообразные исторические общества Европы объединены им в один тип, зато Ближневосточные общества совершенно необоснованно разделены на четыре: египетский, асии-рийско-вавилоно-финикийский, иранский, еврейский. Понятно, что он объединяет Европу на основании наличия в ней единого религиозного вероучения (западного христианства), но одна религия — это не единственное, что может обеспечивать общность цивилизации, осуществляющейся в совокупности государств.
У Н.Я. Данилевского утрачены Япония и Корея, государства Африки (в том числе и весьма любопытные), государства Индокитая. Упущены древние государства Месопотамии, которые предшествовали Ассирии и Вавилону и которые оказали определяющее воздействие на само начало китайской и индийской цивилизованной истории. Под иранской цивилизацией, предшествующей, по Данилевскому, греческой, скорее всего, понимается держава Ахеменидов, но при этом исчезает из рассмотрения принципиально важный для всего Ближнего Востока сасанидско-саманидский этап развития, который был, с одной стороны, не менее самобытным, чем ахеменидский, а с другой стороны, оказал значительно большее влияние на историю региона. Можно привести и другие примеры. Одним словом, предложенная им схема грешит нечеткостью выбранного критерия, а оттого напоминает известную «китайскую классификацию».
Вызывает сомнения и историческая преемственность, и последовательность выделяемых Данилевским цвилизаций. «Между ними должно отличать типы уединенные от типов, или цивилизаций, преемственных, плоды деятельности которых передавались от одного к другому, как материалы для питания, или как удобрение (то есть обогащение разными усвояемыми, ассимилируемыми веществами), той почвы, на которой должен развиваться последующий тип. Таковыми преемственными типами были: египетский, ассирийско-вавилонофиникийский, греческий, римский, еврейский и германо-романский, или европейский» [1, с. 74]. Преемственность между этими цивилизациями не носила такой формы. Греческий и римский типы явно не наследовали египетскому и ассирийско-вавилоно-финикийскому, это были две совершенно разные ветви исторического развития (они, на самом деле, даже не наследовали друг другу, но это утверждение не является явным и нуждается в серьезном доказательстве, поэтому оставим его в качестве принципиального авторского комментария). Германо-романский тип не наследовал еврейскому, ибо перенимание религии, на наш взгляд, не есть наследование.
Н.Я. Данилевский явно путает наследование и присвоение некоторых важных «плодов» иной цивилизации, но в этом отношении еще больше «плодов» египетского и ассирийско-вавилоно-финикийского типов (чем греки и римляне) получила иранская цивилизация. Ев- рейский тип создал плоды, усвоенные, в том числе, и цивилизацией аравийской. А «ассиро-вавилоно-финикийцы» вместе с китайцами и индийцами приобрели «основы цивилизованной жизни как таковой» у древнейших государств Ближнего Востока.
Иными словами, можно утверждать, что классификация Н.Я. Данилевского существенно обедняет реальное многообразие культур и цивилизаций, она содержит белые пятна, но если постараться заполнить их и обнаружить в истории другие самобытные цивилизации, то весь процесс человеческого развития рискует превратиться в неупорядоченную какофонию цивилизаций.
Методологическая ошибка предложенной схемы заключается в том, что Н.Я. Данилевский, во-первых, следуя своей биологической аналогии цивилизации с многолетним растением, ориентируется на «периоды яркого цветения», а во-вторых, как правило, ищет явное историческое основание, которое позволило бы ему объединить разные народы и государства в пределах одной цивилизации.
Первое заблуждение заключается в том, что рассматриваются «яркие проявления в истории» и при этом игнорируются все этапы, которые этим периодам предшествовали или следовали за ними.
Второе заблуждение проявляется в том, что в основном для Н.Я. Данилевского отдельные культурно-исторические типы создаются одним народом или в одном государстве (египетский, китайский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, аравийский). Исключения составляют европейский тип, где объединяющим началом служит западное христианство, и ассирийско-вавилоно-финикийский, разделить на разные цивилизацийи было бы необоснованно, тем более что соответствующие государства сменяли друг друга на одной территории в короткий (по историческим меркам) промежуток времени.
Эта ориентированность на явные и яркие исторические показатели и создает ситуацию, когда предложенная схема вопиющим образом не охватывает большинство достаточно самобытных народов, сыгравших в истории значительную роль, в том числе и роль созидательную. Это вызывает и противоестественное деление народов на «созидателей», «разрушителей» и «этнографический материал».
Вышесказанное не позволяет обратить внимание на то, что ряд обществ переживал не- сколько периодов подъема. Так, в китайской истории, кроме подъема при династиях Шан-Инь и Чжоу, были подъемы при династиях Цинь и Хань (2-й подъем), при династиях Суй и Тан (3-й подъем), при династии Мин (4-й подъем). Несколько подъемов пережило и индийское общество.
Кроме того, невозможно учесть, что некоторые цивилизации могут быть представлены несколькими государствами, которые развиваются параллельно и достигают точки своего наивысшего подъема в разное время, как Китай, Япония и Корея или древние государства Ближнего Востока.
Мы снова приходим к пониманию важного тезиса: в основании культурно-исторической классификации должны лежать не конкретные исторические подъемы, осуществляемые в рамках одного государства или усилиями одного народа, а территории, на которых проживают народы, связанные родством культуры и исторической судьбы. В этом случае мы не только преодолеваем непонятное разделение делателей истории и этнографического материала, но и можем рассмотреть историю народов с родственной культурой на протяжении последовательно сменяющих друг друга преемственных цивилизаций.
В этом случае в одну культурноисторическую «нишу» попадают как народы, реализовавшие специфику собственной культуры в рамках «яркого культурного подъема», так и народы, которые с ними соседствовали и находились в состоянии взаимного духовного влияния.
Иными словами, нельзя, как это делает Н.Я. Данилевский, смешивать пространственное и временное основание деления народов на культурно-исторические целостности, эти основания нужно жестко развести, причем пространственное основание должно получить безусловный приоритет перед основанием временным.
Важным вопросом, имеющим принципиальное значение для понимания различия существовавших в истории цивилизаций, является вопрос о наличии универсального основания, обусловившего это различие. И в этом вопросе у Н.Я. Данилевского существует только видимая ясность. Первоначально он вдается в непонятные рассуждения о том, что специфика культурно-исторических типов заключена в их индивидуальности (самобытности). Один из пассажей на эту тему цитировался выше. Но индивидуальность, или самобытность, тоже нуждается если не в объяснении, то хотя бы в ориентировочном описании. Если мы в состоянии в целом описать отличие одного человека от другого или одного растения от другого, то то же самое должно быть приложимо и к индивидуальным цивилизациям. Именно в этом отношении в построении Н.Я. Данилевского полностью отсутствует вменяемая система, приходится собирать эти различия по тексту, чтобы получить хоть какое-то внятное объяснение. По сути дела, он подробно описывает отличие европейского культурно-исторического типа от славянских народов, не образовавших еще тип, и предлагает параллельно особое основание для описания специфики всех культурноисторических типов в целом.
В качестве такого общего основания служит «преимущественный разряд культурной деятельности». Приведем ряд суждений Н.Я. Данилевского по этому вопросу: «Общих разрядов культурной деятельности… насчитывается ни более ни менее четыре, именно:
-
1) Деятельность религиозная , объемлющая собою отношения человека к Богу…
-
2) Деятельность культурная, в тесном значении этого слова , объемлющая отношения человека к внешнему миру…
-
3) Деятельность политическая , объемлющая собою отношения людей между собою как членов одного народного целого и отношения этого целого как единицы высшего порядка к другим народам. Наконец —
-
4) Деятельность общественноэкономическая , объемлющая собою отношения людей между собой не непосредственно, как нравственных и политических личностей, а посредственно — применительно к условиям пользования предметами внешнего мира…» (выделено И.Я. Данилевским. — А.П. ) [1, с. 400].
«Первые культуры: Египетскую, Китайскую, Вавилонскую, Индийскую и Иранскую, мы можем… назвать первичными или аутох-тонными… Они не проявили в особенности ни одной из только что перечисленных нами сторон человеческой деятельности, а были, так сказать, культурами подготовительными, имеющими своей задачею выработать те условия, при которых вообще становится возможною жизнь в организованном обществе» [1, с. 401].
И далее. «Таким образом, цивилизации, последовавшие за первобытными аутохтонными культурами, развили каждая только одну из сторон культурной деятельности: Еврейская — сторону религиозную, Греческая — собственно культурную, Римская — политическую. Поэтому мы должны характеризовать культурноисторические типы: еврейский, греческий и римский — именем типов одноосновных» (выделено И.Я. Данилевским. — А.П.) [1, с. 405].
«По всем этим причинам должны мы установить за германо-романским культурноисторическим типом название двуосновного политико-культурного типа с преимущественно научным и промышленным характером культуры в тесном смысле этого слова» (выделено И.Я. Данилевским. — А.П. ) [1, с. 407].
«Мы можем надеяться, что славянский тип будет первым полным четырехосновным культурно-историческим типом» [1, с. 430].
Можем ли мы принять подобное объяснение? Очевидно, что нет. Во-первых, из указанного совершенно непонятно то, чем отличаются автохтонные культурно-исторические типы друг от друга. Во-вторых, остается вопрос о том, какие глубинные внутренние основания сподвигли одноосновные культурноисторические типы к тому, что они избрали именно эти виды преимущественной деятельности (ибо деятельность все же относится к внешнему проявлению внутренних оснований духовной жизни).
В-третьих, в высшей степени притянутыми за уши кажутся сами такие сочетания народов с преимущественными типами осуществляемой ими деятельности. Религиозная деятельность новосемитического и индийского типов не уступала соответствующей деятельности еврейского типа, а может и превосходила ее. Политическая деятельность в Китае была не хуже организована, чем в Риме и т.д.
Понятен общий пафос работы, доказательство исключительности славянского типа и славян в историческом развитии. При этом, следуя данной цели, Н.Я. Данилевский страдает основательной исторической предвзятостью, усматривая в Греции истоки славянской культуры, в Риме — славянской империи, а у евреев — славянского христианства. Для этого и нужна правопреемственность цивилизаций, а также полное игнорирование другой правопреемственности, связанной с альтернативными христианским цивилизациями. Для этого нужно игнорирование величайших достижений этих цивилизаций в областях реализации означенных видов деятельности. Для этого нужно объ- явить наиболее враждебные славянству цивилизации Бичами Божьими.
Иными словами, история искажается в угоду политическим и национальным предпочтениям автора, отчего приобретает откровенно националистический оттенок. В качестве усугубляющего момента следует вспомнить, что, хотя выбранные Н.Я. Данилевским виды деятельности не объясняют индивидуальность цивилизаций, а только описывают их внешние черты, показывая количественные, но не качественные характеристики индивидуальности, одну качественную характеристику автор все-таки постулирует, правда, отношение она имеет только приложимо к различию между европейским и славянским типом.
Он пишет: «Одна из таких черт, общих всем народам романо-германского типа, есть насильственность (Gewaltsamkeit). Насильственность, в свою очередь, есть ничто иное, как чрезмерно развитое чувство личности, индивидуальности, по которому человек, им обладающий, ставит свой образ мысли, свой интерес так высоко, что всякий иной образ мыслей, всякий иной интерес необходимо должен ему уступить, волею или неволею, как неравноправный ему» [1, с. 150].
Сама эта цитата являет собой пример величайшего противоречия. Действительно, для европейских народов на всем протяжении их истории был характерен индивидуализм, порой доходящий до крайностей. Но именно этот индивидуализм и приводит к тому, что эта цивилизация является в высшей степени терпимой по отношению ко всяким проявлениям других образов мысли и взглядов. Иное и невозможно, в противном случае европейское общество не могло бы существовать, поглотив себя в пучине межиндивидной войны. В то время как общества с ослабленным признанием индивидуальности как раз и являются нетерпимыми к проявлениям несогласного с общим образа мыслей и взглядов.
Короче говоря, можно говорить о насильственности как характеристике отношений внутри цивилизации и как характеристике отношений к другим цивилизациям.
Насильственность в первом смысле присутствует и в Европе, и в России, но если в Европе она служит методом разграничения правомочности индивидуалистичных индивидов, способом выяснения того, кто на что имеет право, то в России — это выражение фанатичной нетерпимости и стремление уничтожить всякие про- явления чуждого. Иными словами, в Европе существует «война всех против всех», а в России — террор общества по отношению к маргиналам. Это две разные формы насильственности, и вопрос о том, которая является худшей, представляется весьма спорным.
Н.Я. Данилевский видит один тип насильственности и совершенно не усматривает другого. Он не видит жуткую насильственность православия, проявившуюся и в период крещения Руси, и в период русского религиозного раскола, и в прочие времена по отношению к еретикам. Он не видит политической насильственности Российской империи, проявившейся в период расширения ее территорий. Он не видит насильственности культурной ассимиляции в период ее укрепления и т.д.
Но даже если рассмотреть насильственность различного типа как характеристику различных цивилизаций, попытавшись распространить эту типологию и на остальные цивилизации (чего Н.Я. Данилевский не делает), то остается открытым вопрос об основаниях этого различия, т.е. об квинтэссенции этой индивидуальности, о самой сути ее, взятой в ее тотальной целостности.
Можно подытожить рассмотрение предпринятого Н.Я. Данилевским труда следующим образом. Он, очевидно, усматривал качественное различие европейской и российской цивилизации и смог спроецировать это различие за пределы исходного противопоставления и усмотреть в истории человечества и другие само- бытные цивилизации. Но ему не удалось проникнуть за пределы видимых различий этих цивилизаций и постигнуть сущность их специфики. Это во многом произошло потому, что Н.Я. Данилевский был политически предвзят, а потому рассматривал остальные цивилизации, отталкиваясь от специфики славянского типа. Он не рассматривал их абсолютную специфику, но только специфику относительную, что заметно снижало уровень исследования. Кроме того, Н.Я. Данилевский обладал весьма поверхностным знанием истории и был первым исследователем этого направления, что заметно уменьшало как объем исследуемого материала, так и заставляло его самого разрабатывать все концептуальные идеи.
Тем не менее, значение этого исследования велико. В нем впервые были поставлены принципиальные вопросы, касающиеся закономерностей развития человечества, причем впервые поставлены правильно, и не столь уж важно, что ответы на эти вопросы оставляли желать лучшего.
Список литературы Критическое осмысление цивилизационной модели Н. Я. Данилевского
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Глаголь, 1995.
- Козлов Г. Темучин -каратель неразумных//Вокруг света. 2006. №6. С.50-66.