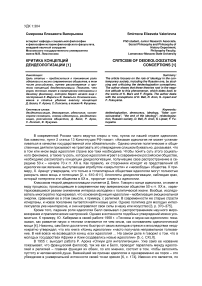Критика концепций деидеологизации
Автор: Смирнова Е.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - приблизиться к пониманию роли идеологии в жизни современного общества, в том числе российского, путем рассмотрения и критики концепций деидеологизации. Показано, что корни течения лежат в негативном отношении к данному феномену, которое берет начало еще с построений К. Маркса и Ф. Энгельса. Основное внимание в статье уделено анализу концепций Д. Белла, Р. Арона, С. Липсета, а также Ф. Фукуямы.
Деидеологизация, демократия, идеология, "иллюзорное сознание", "конец идеологии", реидеологизация, российское общество, д. белл, р. арон
Короткий адрес: https://sciup.org/14937300
IDR: 14937300 | УДК: 1:304
Текст научной статьи Критика концепций деидеологизации
В современной России часто ведутся споры о том, нужна ли нашей стране идеология. Как известно, пункт 2 статьи 13 Конституции РФ гласит: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Однако многие политические и общественные деятели призывают не трактовать это утверждение слишком буквально, доказывая, что в том или ином виде идеология стране все-таки необходима. Чтобы понять суть этого социального феномена, а также ту роль, которую идеология играет в современном российском обществе, необходимо рассмотреть концепции деидеологизации, получившие свое распространение в середине 50-х – начале 70-х гг. ХХ в. Как правило, их сторонники исходят из представлений об идеологии как явлении, выступающем атрибутом «закрытости» и «несвободы» общества. К примеру, Х. Арендт утверждала, что только в тоталитарных обществах идеологии могут полностью раскрыть свою мощь и потенциал [2, с. 610–611]. Апологеты деидеологизации, наблюдая крах, который потерпели эти общества в ХХ в., пророчат «смерть» идеологии.
Классиком теорий деидеологизации считается Д. Белл. Говоря о конце идеологии, он имел в виду процессы, происходившие в современном ему американском обществе 50-х гг. ХХ в., характеризовавшиеся резким снижением интереса молодежи к политической жизни. Вообще, исследователь многократно подчеркивал, что основная функция идеологии – мобилизация эмоциональной энергии, сравнивая ее в этом смысле, к примеру, с религией. В современности же старые страсти исчерпаны, и новое поколение пытается найти новые цели. Однако политика для молодых интеллектуалов уже неинтересна, и они направляют свои силы в науку или искусство [3, р. 370–375].
Кроме того, падение роли идеологии Белл связывал с распространением научного мировоззрения и прагматических настроений. Однако в истинности подобных утверждений можно усомниться. К примеру, Ю. Хабермас в своей работе 1968 г. «Техника и наука как идеология» показывал, как развитие науки и техники становится не чем иным, как основанием идеологической мощи [4]. Наконец, сам Белл достаточно быстро от своих взглядов отрекся и впоследствии неоднократно утверждал, что его книга «Конец идеологии» «часто получала неправильное толкование. В ней вовсе не возвещался конец всех идеологий … На самом деле я говорил о том, что в молодых государствах Африки и Азии создавались новые идеологии» [5, с. CXLII].
В 1955 г. выходит работа Р. Арона «Опиум для интеллигенции». Уже само ее название показывает, что французский философ, так же как и Белл, проводит параллель между идеологией и религией – главная функция их обеих, по его мнению, состоит в том, чтобы заполнять пустоту в человеческой душе. Важнейший же признак идеологии и одновременно ее порок – это убеждение в универсальной истинности своей точки зрения [6, с. 174]. Именно это является, по его утверждению, основной проблемой европейских интеллектуалов. Если же говорить непосредственно о «конце» идеологии, то Арон его не констатирует и не предвещает, он скорее выражает свою надежду на то, что научное мировоззрение и терпимость к иным точкам зрения возобладают. Однако способность быть открытым к другим и даже противоречащим точкам зрения, по нашему мнению, сути идеологии не противоречит. К примеру, психоаналитик О. Кернберг говорил о возможности создания абсолютно открытой и терпимой идеологии [7, p. 28–35].
Нельзя не упомянуть концепцию С. Липсета. В своей работе «Ideology and no end» ученый утверждает, что фундаментальные политические и экономические проблемы в западном мире уже решены. В таком «хорошем» обществе никакие идеологические идеи уже не смогут поднять массы на борьбу. Более того, сам имеющийся политический строй, если он обеспечивает для всех достойный уровень жизни, не нуждается в дополнительной легитимации, которую могла бы осуществлять идеология. Найден относительно совершенный тип государственного устройства (демократия), а это означает, что идеология как таковая может отмереть [8]. Здесь мы видим, помимо прочего, отголоски представления об идеологии как об «иллюзорном» сознании (концепция К. Маркса и Ф. Энгельса), как о лжи, необходимой для того, чтобы оправдать тот или иной тип политического устройства [9, с. 14]. Очевидно, самое уязвимое место в построениях Лип-сета – это утверждение, что достигнуто стабильное политическое и экономическое состояние и больше нет причин для идейной и политической борьбы. Впрочем, не стоит забывать, что Липсет, так же как и Белл, от своих взглядов достаточно быстро отрекся.
Однако уже в 90-е гг. ХХ в. появляется теория «конца истории» Ф. Фукуямы. Его концепция, с одной стороны, схожа с построениями Липсета, но с другой – в корне отличается от теорий деидеологизации. Вместо того чтобы утверждать, что идеология отмерла за ненужностью, он провозглашает конец идеологической борьбы, полную и безоговорочную победу неолиберализма. Он пишет о достигнутом небывалом консенсусе по поводу легитимности либеральной демократии, в то время как соперничающие идеологии (тут он выделяет наследственную монархию, фашизм и коммунизм) потерпели крах. Либеральная демократия, по его мнению, лишена внутренних логических противоречий. Конечно, он не отрицает, что даже страны с развитой демократией сталкиваются с разнообразными социальными проблемами, которые, однако, представляют собой, по его мнению, лишь временные эмпирические трудности. Совершенство же принципов, лежащих в основе данной идеологии, сомнений у него не вызывает [10].
Его позиция встретила массу протестов. В частности, Ж. Деррида выступил с критикой его концепции, показывая слабые места теории и практики неолиберальной модели общественного развития. Философ утверждает, что расизм, ксенофобия, религиозные конфликты и многое другое – не временные эмпирические затруднения на пути реализации этой идеологии, а свидетельство ее глубокого внутреннего кризиса. Деррида показывает необходимость создания качественно новых идеологий, способных удовлетворить нужды глобализирующегося общества [11, с. 82–93].
Таким образом, можно обобщить, что для сторонников деидеологизации в целом характерно негативное отношение к идеологии, противопоставление ее научному мировоззрению. Корни такого отношения находятся еще в теории «иллюзорного сознания» К. Маркса и Ф. Энгельса, определявших идеологию как ложь, иллюзию. Негативное отношение к данному социальному феномену приводит теоретиков деидеологизации к мысли о том, будто в демократических государствах идеологии быть не должно. Однако не стоит забывать, что и Белл, и Липсет впоследствии от своих взглядов отреклись. Достаточно быстро на смену теориям деидеологизации пришли теории реидеологизации. К. Гирц [12], Л. Альтюссер [13], Р. Барт [14], Л. Болтански [15], С. Жижек [16] и другие писали об усилении роли идеологии в современном обществе и обществе будущего. Доводы сторонников деидеологизации были опровергнуты. В том числе постепенно стало формироваться более позитивное отношение к самому феномену идеологии. Хотя не стоит забывать, что ее способность выполнять важнейшую психологическую функцию – а именно направлять энергию людей, а значит, мотивировать их к той или иной деятельности – не могли не отметить даже сторонники теорий деидеологизации.
Ссылки и примечания:
-
1. Публикация подготовлена при поддержке фонда РГНФ (проект № 15–03–00868 «Российское общество и государство в их становлении и эволюции: этнорелигиозные, культурно-исторические и коммуникативные контексты»).
-
2. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996.
-
3. Bell D. The end of ideology. Illinois, 1960. Р. 370–375.
-
4. Хабермас Ю. Техника и наука как идеология. М., 2007.
-
5. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 2004.
-
6. Арон Р. Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960.
-
7. Kernberg O.F. Ideology, Conflict, and Leadership in Groups and Organizations. London, 1998.
-
8. Lipset S.M. Ideology and no end // Encounter. 1972.
-
9. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М., 1988.
-
10. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2009.
-
11. Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби и новый интернационал. М., 2006.
-
12. Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004.
-
13. Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас.
2011. № 3 (77). URL:
(дата обращения: 01.07.2015).
-
14. Барт Р. Мифологии. М., 1996.
-
15. Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М., 2011.
-
16. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999.
Список литературы Критика концепций деидеологизации
- Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996.
- Bell D. The end of ideology. Illinois, 1960. Р. 370-375.
- Хабермас Ю. Техника и наука как идеология. М., 2007.
- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 2004.
- Арон Р. Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960.
- Kernberg O.F. Ideology, Conflict, and Leadership in Groups and Organizations. London, 1998.
- Lipset S.M. Ideology and no end//Encounter. 1972.
- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М., 1988.
- Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2009.
- Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби и новый интернационал. М., 2006.
- Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004.
- Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства //Неприкосновенный запас. 2011. № 3 (77). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3.html (дата обращения: 01.07.2015).
- Барт Р. Мифологии. М., 1996.
- Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М., 2011.
- Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999.