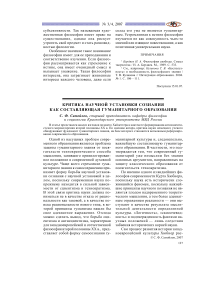Критика научной установки сознания как составляющая гуманитарного образования
Автор: Самойлов С.Ф.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Философия образования
Статья в выпуске: 3-4 (48-49), 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ взглядов позднего Хайдеггера в контексте формирования антисциентистского мировоззрения второй половины XX в. По мнению автора, критика науки немецкого ученого обнаруживает фундамент гуманитарного знания, на базе которого становится возможным реформирование современного образования.
Короткий адрес: https://sciup.org/147136366
IDR: 147136366
Текст краткого сообщения Критика научной установки сознания как составляющая гуманитарного образования
В статье представлен анализ взглядов позднего Хайдеггера в контексте формирования антисциенти-стского мировоззрения второй половины XX в. По мнению автора, критика науки немецкого ученого обнаруживает фундамент гуманитарного знания, на базе которого становится возможным реформирование современного образования.
Одной из насущных проблем современного образования является проблема защиты гуманитарного знания от посягательств технократического способа мышления, занявшего привилегированное положение в современной духовной культуре. Чаще всего стремление гуманитарного знания к самосохранению принимает форму борьбы научной установки сознания с научной установкой в целом, поскольку современная наука по-прежнему находится в сильной зависимости от сциентизма и технократизма. В этой связи критика науки должна пониматься не в качестве отказа от рациональности как таковой, а в качестве поиска рациональности нового типа, в которой принципы гуманизма нашли бы свое адекватное выражение. Отсюда можно сделать вывод, что борьба сциентизма и антисциентизма, характерная для западноевропейской и отечественной философии второй половины ХХ в., представляет собой форму самосознания гу манитарной культуры и, следовательно, важнейшую составляющую гуманитарного образования. В частности, это подтверждается тем, что современный гуманитарий уже немыслим без знания основных аргументов, направленных на защиту классического образования от посягательств технократизма.
По мнению одного из виднейших философов современности Курта Хюбнера, поскольку наука есть исторически сложившийся феномен, поскольку важнейшие принципы научного познания не являются плодом надвременного теоретического мышления, а тем более адекватным отражением реальности — они выступают в качестве результата мыслительной деятельности определенной культуры. «Логичность», «самоочевидность» и подтвержденность фактами научных положений — лишь следствия забвения исторических корней науки.
Сам процесс развития истории западноевропейской культуры Хюбнер рас
сматривает как борьбу установок сознания. Философ полагает, что западноевропейская культура носит глубоко двойственный характер. С одной стороны, в ней реализуется установка на объяснение и подчинение природы, нашедшее свое выражение в научно-техническом способе мышления, а с другой — в ней всегда присутствовала и присутствует установка на осмысление природы, что выражается в мифопоэтическом мышлении, органической частью которого является антисциентистская философия.
Осмысливая борьбу указанных установок, Хюбнер отмечет: «Не принимая во внимание научное представление о том, что природа целиком и полностью подчиняется законам причинности, люди по-прежнему придерживались убеждения о господстве в природе смысло- и целеполагания. Хотя применительно к биологии мышление в терминах цели не является чем-то чужеродным (к примеру, если задаются вопросом о назначении некоторого органа), однако, в конце концов, и биология предполагает достижение данных целей исключительно с помощью физических, химических или физиологических законов. ...В противоположность аналитическому подходу науки, расчленяющему все на его элементы, чтобы затем связать их друг с другом, скажем, с помощью математических функций, люди требовали „целостного мышления“. В конце концов, они вообще отказались от общей задачи покорения природы. ...Я напомню об организмиче-ской картине мира Шефтсбери, о бунте Руссо против науки, о понимании природы Гердером, о движении „Буря и на-тиск“, об... отношении Гете к „феноме-нам“... о философии природы Шеллинга... о естественной мистике Новалиса... Растущий сегодня культурный пессимизм и бунт против науки и техники оказываются лишь звеном длинной цепи»1.
Идея доказательства исторической обусловленности и преходящего характера научной установки сознания во многом обязана своим возникновением Мар тину Хайдеггеру. Последний в качестве средства раскрытия закономерностей формирования научного отношения к действительности использует не описание исторических событий, а герменевтический метод, поскольку язык является беспристрастным свидетелем, запечат-ляющим сущность основных этапов развития научно-философской мысли. Герменевтика служит средством обнаружения различных установок сознания и раскрытия логической связи между ними. Главным же предметом герменевтического исследования выступают научная и философская формы отношения к действительности. Исходя из этого статья Хайдеггера, посвященная описанию борьбы данных установок сознания, была озаглавлена «Наука и осмысление».
Хайдеггер определяет науку как теорию действительности, подчеркивая, что такое определение подходит именно к новоевропейской современной науке, существенным образом отличающейся от греческой «эпистемы» и средневековой «доктрины». Согласно Хайдеггеру, современное понимание слов «природа» и «действительность» утратило изначально свойственный им динамический характер. Так, под «действительностью» в античности понималась способность природы к самопорождению, в результате которой различные вещи и явления «выставлялись» на свет. «Действительность» по-гречески — «энергия». Это слово восходит к индоевропейскому корню verg, откуда берут начало немецкое Werk и греческое «ergon». «И никогда не будет лишним подчеркнуть: основная черта действия как энергии заключается не в efficere и effectus, не в результативности акта, а в том, что вещь выходит к непотаенному предстоянию и предлежанию»2. Иными словами, под действительностью, или энергией, в античности подразумевалась не сила, но предельная осуществленность возможностей, заложенных в природе.
Легко заметить, что такое понимание действительности настраивает античное мышление на созерцательное, осмысленное отношение к природе. Следствием созерцательности греческого мышления служит понимание познавательной деятельности как особой формы «феории». Термин «феория» связан с театром и происходит от слов 6га — зрелище, облик, лик, в котором вещь является, вид, под которым она выступает, и ораш — глядеть на что-либо (с. 242). Феория как установка сознания нацелена на обнаружение в природе некоего священного, скрытого от глаз, но открытого уму действа, где в качестве действующих лиц выступают идеальные сущности. Таким образом, греческое философское мышление понимает теоретизирование не в качестве субъективного усилия, направленного на нормирование, систематизацию и формализацию эмпирического материала, а в качестве процесса самораскрытия идеального бытия в природе. При этом феория носит глубоко органический, всеобъемлющий характер и охватывает собой все сущее, включая самого наблюдателя. В результате греческое теоретизирование исключает как разделенность на субъект и объект, так и субъективистскую интерпретацию осмысления.
Истоки современной научной установки сознания, исходящей из разделения на субъективное и объективное и нацеленной на объяснение вещей и явлений, Хайдеггер обнаруживает в латинском языке и связанном с ним способе мышления. «Римляне переводят, т. е. понимают, „эргон“, исходя из operatio в смысле actio, и говорят вместо „энер-гии“ — actus, совершенно другое слово с совсем другой областью значения. Произведенное оказывается теперь результатом той ли иной „operatio“» (с. 241). Иначе говоря, практичность и технократизм римлян превращают действительность из органического начала в результат волевого усилия человека. Действительность в латинской культуре начинает рассматриваться как нечто подчиненное причинно-следственным отношениям: вложив в определенное действие то или иное усилие, индивид должен получить определенный эффект. Этот эффект как раз и является доказательством действенности и действительности вещей. Прикладное понимание разума приводит к тому, что греческая «феория» переводится как contemplatio.
Если греческая «феория» имеет созерцательное, театральное значение, то латинское contemplatio возводится Хайдеггером к термину templum, под которым понимается мысленно отграничиваемый на небе участок для гадания по полету птиц. Уже в этом немецкий мыслитель видит начало интерпретации теоретического мышления в качестве интеллектуальной деятельности, направленной на нормирование сущего, его подчинение интересам человека. Итак, в противоположность греческому теоретическому мышлению, наслаждающемуся выявленной разумностью природы, латинское теоретизирование представляет собой прагматичное «рассматривание» вещей с целью обнаружения в них скрытых механизмов функционирования, которые при определенных условиях можно поставить на службу человеку.
По мнению Хайдеггера, герменевтический метод путем демонстрации различий между изначальным значением термина «теория» и его латинской интерпретацией позволяет раскрыть субъективистские корни научной установки сознания. Важность данной задачи заключается в том, что наука настаивает на своей объективности и не вовлеченности в интересы человека. Более того, наука, по словам Хайдеггера, вообще не желает признавать себя установкой сознания, ведь в этом случае объективность предоставляемых ею данных окажется под вопросом. Такое сокрытие своих подлинных интересов осуществляется научным познанием с помощью подмены латинского термина contemplatio греческим словом «теория». В результате создается иллюзия, что современная наука также «теоретична», как и ее греческая предшественница.
Однако это далеко не так, поскольку латинское мышление внесло в характер научного познания существенные коррективы.
С точки зрения немецкого мыслителя, в современной науке теория представляет собой не отображение реальности, а ее формирование. Действительность в понимании современной теоретической науки не мыслится вне разделения на субъект и объект, которое стало самоочевидным условием познания. Действительное — это не что иное, как предметность, то, что противостоит субъективности — человеку. Данное противопоставление позволяет научной теории превратиться в план, проект, схему действительного. Отрываясь от природы, западноевропейское мышление, по сути, само определяет законы окружающего мира.
Описывая процесс приспособления научной установкой сознания наблюдаемых явлений принципа и вычисляющего мышления, Хайдеггер отмечает: «Теория устанавливает всякий раз определенную форму действительного как свою... предметную область. Дробный характер предметного противостояния с самого начала предопределяет собой возможность той или иной постановки вопросов. Каждое явление, выступающее внутри той или иной области науки, обрабатывается до тех пор, пока не начинает вписываться в определенную предметную структуру теории» (с. 245).
Таким образом, научное познание, исходя из разделенности на субъект и объект, предопределяет отношения между человеком, с одной стороны, и вещами, процессами и явлениями — с другой. В результате наука предоставляет себе право самой решать, что является действительным, а что нет, и решает она эту проблему, исходя только из своего способа видения вещей. Выше уже указывалось, что данный способ заключается в нормировании реальности, в разделении ее на составные части с целью дальнейшего подчинения природы. Наиболее адекватным выражением методологи ческой установки являются измерение, опредмечивание и объяснение получаемых эмпирических данных. Все три основные составляющие научной установки несут на себе отпечаток «забвения смысла бытия».
Необходимо напомнить, что под «бытием» Хайдеггер имеет в виду «присутствие» (человеческий способ существования), через призму которого индивид воспринимает себя, других людей и мир в целом. Сущностью человеческого способа существования является осмысляющая деятельность или, по выражению Хайдеггера, понимание. Научное же отношение к миру, через призму субъект-объектной разделенности действительности, приводит человечество к утрате смысла как в окружающем мире, так и в собственной жизни. Рассмотрим доказательства бессмысленности вышеназванных основных составляющих научной установки сознания, но предварительно кратко обозначим специфику хай-деггеровского понимания бессмысленности.
Будучи представителем феноменологической традиции, Хайдеггер связывает процесс смыслонаделения с человеческим способом существования, но при этом далек от его отождествления с субъективностью. Для немецкого мыслителя субъективность — не более чем особая историческая конструкция, которая не может выступать в качестве смыслонаделяющей инстанции. Смысл всегда связан с осознанием конечности человеческого существования, его временности, тогда как субъективность во многом является проекцией механистически истолкованной природы на человека. Именно поэтому наука рассматривает и субъект, и объект в качестве функций и тем самым подвергает вопросы об истине и смысле бытия забвению. Присутствие «субъективности» в измерении, опредмечивании и объяснении означает наличие произвольности в научных построениях, но никак не наличие в них смысла.
Для Хайдеггера измерение связано со взаимоприравниванием различных систем, которое осуществляется с помощью уравнений. Рассчитывание отношений между системами с помощью уравнений возможно только в том случае, если в основании этих математических операций лежит «единое основополагающее уравнение», т. е. прослеживающе-устанавливающее мышление. Математическое мышление подменяет вопрос о смысле предметности демонстрацией функциональных зависимостей, что позволяет индивиду «забыть» свою конечную природу, погрузиться в деятельность по нормированию сущего и не поднимать вопрос о конечной цели существования.
Опредмечивание, согласно Хайдеггеру, бессмысленно не потому, что оно разделяет реальность на ряд изолированных друг от друга областей, а потому, что выявляет эти области, причем не на основании изначально присутствующего в них смысла, а на основании сугубо человеческого интереса. Поэтому теоретизирование в современной его форме отражает действительность такой, какова она есть на самом деле, но, во-первых, на определенном символическом языке, во-вторых, не в целостном виде (лишь определенную ее сторону). Отсюда теоретизирование не является чем-то самодостаточным, оно всегда зависит от предметности, хотя и создает схему ее понимания. На этом основании Хайдеггер говорит об онтологической обусловленности науки — наличием того, без чего она не может обойтись.
Такого рода установка сознания делает невозможным для науки раскрытие собственной сущности. Например, «физика не может в качестве физики делать высказывания о физике. Все высказывания физики звучат как физика. Физика сама по себе никак не может стать предметом физического эксперимента» (с. 250). В этом отношении философия обладает перед наукой несомненным преимуществом, поскольку постоянно ставит и решает вопрос о самой себе и тем самым проясняет свои основания. Таким образом, бессмысленность опредмечивания заключается в том, что в нем наука теряет свою сущность.
Научное объяснение, по Хайдеггеру, сводится к установлению причинно-следственных связей. В отличие от античного и средневекового научного мышления современная наука рассматривает данные связи как протекающие во времени. Рассмотрение времени через призму причинно-следственных отношений также является одной из форм забвения «смысла бытия», поскольку в этом случае время получает объективистскую интерпретацию, т. е. становится предметом измерения. В противоположность этому подлинное отношение ко времени представляет собой переживание человеком временности собственного существования. Такое отношение к действительности позволяет вывести человека из погруженности во внешнюю предметность и в полной мере осознать самого себя3.
Теперь, когда вскрыта «бессмысленность» основных составляющих научной установки сознания, необходимо выяснить главную причину неадекватности научного отношения к действительности в целом. Согласно Хайдеггеру, неспособность научного познания раскрыть смысл наблюдаемых явлений, событий и процессов заключается в том, что оно не задается главным метафизическим вопросом: почему существует нечто, а не ничто? Иными словами, наука не ставит вопроса о смысле бытия. Не выясняя подлинных оснований существования, наука рассматривает их бытие в качестве само собой разумеющегося факта, не нуждающегося в осмыслении. В результате само наличие вещей не выделяется в науке в отдельную тему познания, и потому оно, по выражению немецкого мыслителя, становится «неприметным». «Неприметность» существования вещей является закономерным следствием «неприметности» человеческого существования, благодаря которому выводится на свет бытие мира в целом. Та- ким образом, «бессмысленность» научного познания заключается не в неспособности раскрыть «объективный смысл», заложенный в природе, а в не-продуманности «субъективных» мотивов процесса познания.
Можно сделать вывод, что хайдегге-ровская критика западноевропейской науки во многом движется в русле требования Эдмунда Гуссерля рассматривать познание и самопознание в качестве двух сторон единого процесса. Специфика же подхода Хайдеггера заключается в том, что он определяет забвение процесса самопознания в современной научной установке сознания как главное условие понимания науки в качестве теории действительности.
Реализуя гуссерлевскую программу возврата к самим вещам через сознание, Хайдеггер предлагает дополнить науку философствованием или, как он выражается, осмыслением. «Хотя науки на своих путях и своими средствами как раз никогда не могут проникнуть в существо науки, все же каждый исследователь и преподаватель, каждый человек, занятый той или иной наукой, как мыслящее существо способен двигаться на разных уровнях осмысления и поддерживать его» (с. 252). Каким же образом должно выглядеть осмысление, согласно Хайдеггеру? В первую очередь, осмысление есть размышление над тем, что достойно вопрошания. Предметы, достойные вопроса, — это вещи, одновременно наделенные объективной и субъективной значимостью. Хайдеггер подчеркивает: «.. .понять направление, в каком вещь уже движется сама по себе, — значит увидеть ее смысл» (с. 251). Тем самым смысл рассматривается как снятие субъект-объектной разделенности, навязываемой сознанию научным мышлением.
Вместо того чтобы навязывать действительности ту или иную теорию, необходимо позволить ей раскрыть свою сущность. Позволение же действительности показать себя возможно только при условии отказа от агрессивного отношения к природе, лежащего в основании научной установки сознания. Осмысляя действительность, индивид избавляется от замкнутости в самом себе и возникающего на этой почве желания господствовать. Будучи по-настоящему захваченным процессом осмысления, он рассматривает действительность не как нечто противоположное себе, но как нечто раскрывающееся в нем самом. Вместе с тем действительность не есть некая застывшая вне пространства и времени идеальность, она существует во времени и потому носит исторический характер. В свою очередь, судьба индивида и человечества в целом зависит от того, каким образом понимается действительность в настоящий момент.
Насколько позволяет судить символический язык Хайдеггера, осмысление носит ряд черт, свойственных мифопоэтическому мышлению. Поэтому вопрошание рассматривается немецким философом только как отправная точка в процессе осмысления. Само же осмысление предстает в виде мифологического повествования. Необходимость превращения мифопоэтического мышления в главную форму отношения к действительности объясняется в первую очередь угрозой экологической катастрофы, которую спровоцировала научная установка сознания. Мифопоэтическое отношение к действительности не отменяет, но лишь дополняет и в лучшем случае переосмысляет современную науку. Поэтому Хайдеггер подчеркивает, что современное человечество нуждается, в установке или осмыслении взаимопонимания с природой. «Осмысление требуется ему [современному человечеству] как отзывчивость, которая среди ясности неотступных вопросов потонет в неисчерпаемости того, что достойно вопрошания, в чьем свете эта отзывчивость в урочный час утратит характер вопроса и станет простым сказом» (с. 253).
Отсюда можно сделать вывод, что, несмотря на некоторую склонность к мифопоэтическому способу мышления, критика науки М. Хайдеггера обнаружи- вает фундамент гуманитарного знания, на базе которого становится возможным реформирование современного образования. Таким ключевым принципом гуманитарного знания служит осмысляющая деятельность, направленная не на подчинение действительности, а на выяснение изначального смысла, заложенного в окружающем мире.