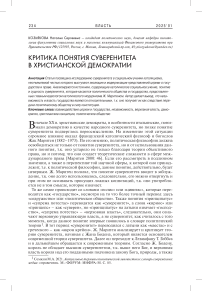Критика понятия суверенитета в христианской демократии
Автор: Козьякова Н.С.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 1 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию суверенитета в социальном учении католицизма, неотъемлемой частью которого выступают эволюция и модернизация представлений церкви о государстве и праве. Анализируются источники, содержащие католическое социальное учение, понятие и сущность суверенитета, которые касаются политического общества и государства, представленные главным идеологом католического модернизма Ж. Маритеном. Автор делает вывод, что независимость и власть государства являются относительными, т.к. оно получает их как следствие передачи политическому обществу в силу конституции.
Взаимодействие церкви и государства, независимость, верховная власть, демократия, христианские концепции, политическое общество
Короткий адрес: https://sciup.org/170209101
IDR: 170209101 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-1-234-238
Текст научной статьи Критика понятия суверенитета в христианской демократии
В начале XX в. христианские демократы, в особенности итальянские, понимали демократию в качестве народного суверенитета, но позже понятие суверенитета подверглось переосмыслению. На изменение этой ситуации огромное влияние оказал французский католический философ и богослов Жак Маритен (1882–1973). По его мнению, политическая философия должна освободиться не только от понятия суверенитета, но и от использования данного понятия, т.к. оно устарело не только благодаря теории объективного права, но и потому, что оно создает теоретические сложности в сфере международного права [Маритен 2000: 46]. Если его рассмотреть в подлинном значении, а также в перспективе той научной сферы, к которой оно принадлежит, т.е. к политической философии, данное понятие, действительно, будет неверным. Ж. Маритен полагал, что понятие суверенитета вводит в заблуждение, т.к. оно долго использовалось, следовательно, его можно отвергнуть и при этом не осознавать присущих ложных коннотаций, т.к. оно употребляется не в том смысле, которое означает.
То же самое происходит со словами «полис» или «цивитас», которые переводятся как «государство», несмотря на то что более точный перевод здесь «содружество» или «политическое общество». Также понятия «принципатус» и «супрема потестас» переводятся как «суверенитет», а слова «кириос» или «принцепс» – как «суверен», но «принципатус» на латыни означает «господство», «супрема потестас» – «верховная власть», следовательно, они означают верховную управляющую власть, а не суверенитет, как считалось с того момента, когда данное понятие впервые появилось в словаре политической теории1. В тот период «суверенитет» переводился с латыни как «маестас» и с греческого – как «акрон крейон». Ж. Маритен анализирует и критикует теорию суверенитета, начиная с Жана Бодена, который является основателем современной теории суверенитета. Далее он переходит к Левиафану Т. Гоббса и в дальнейшем обращается к современным теориям. Согласно Ж. Бодену, король не обладает высшим суверенитетом, т.к. выше него Бог, и верховная власть короля над его подданными подчинена закону Бога, природы, а также требованиям морального порядка [Боден 1999: 442]. Но король является сувереном, т.к. обладает человеческим суверенитетом, и народ передает ему свой суверенитет. Суверенный государь отвечает только перед Богом, суверенитет не ограничен во власти, в обязанностях и не определен во времени. Ж. Боден полагал, что государь есть образ Божий и, следовательно, так же, как суверенный Бог не может сотворить еще одного бога, подобного себе, то и государь, который является образом Бога, не может сотворить равного себе, не лишившись при этом власти [Маритен 2000: 57].
Так как народ полностью лишается всей власти для передачи и наделения суверена властью, то суверен больше не является частью народа и политического общества, он отделен от народа, трансформируется в отдельное целое. Его суверенная личность в качестве отдельного целого трансцендентна народу и осуществляет управление другим имманентным целым или политическим обществом. Ж. Маритен считал, что идею Ж. Бодена, что суверенный государь являет собой образ Бога, необходимо понимать во всей полноте, т.к. это означает, что суверен, подчиненный Богу, несет перед ним ответственность, он существует вне политического целого так же, как Бог существует вне космоса. Следовательно, суверенитет означает отдельную и трансцендентно верховную власть, которая находится не на вершине, но над вершиной, т.е. над всеми подданными, и управляет всем политическим сообществом свыше [Грачев 2022]. В случае суверенитета отделенность является неким сущностным качеством, связанным с самим обладанием, данным правом, от которого народ предположительно отказался. В конечном итоге, иная сущность, отличная от человечности, должна быть определенным образом приписана личности суверена. Здесь Т. Гоббс полагал, что суверен – это «смертный бог» [Гоббс 1991: 549]. С точки зрения Ж. Маритена, главная ошибка теории суверенитета заключается в том, что право на самоуправление, которое естественно принадлежит народу, было заменено рассмотрением всеобщей власти политического общества, и теоретики суверенитета имели представление о том, что государь получает власть, которая отделяет его от народа [Маритен 2000: 68].
При этом они не приняли во внимание важное для средневековых авторов понятие уполномоченности, заменив его юридическими терминами физической передачи и дарения. Теоретики суверенитета обсуждали данный вопрос в терминах благ и материальной власти, которыми обладают в качестве собственности либо при помощи доверенности, т.е. сущностно или в форме соучастия [Еллинек 1903: 276]. По мнению Ж. Маритена, если индивид имеет материальное благо, то другой не может претендовать на это право, здесь возможна только передача собственности или дарение. Но при этом индивид может обладать принадлежащим ему природным правом, а другим – в качестве участника [Галеев, Черников 2024]. Бог по своей сущности владеет правом повелевать, а люди обладают данным правом как через сопричастность к божественному закону, так и сущностно, оно является человеческим правом, следовательно, уполномоченные народом или его представители обладают этим правом только через участие в праве народа. Поэтому в действительности даже в монархии, если она не абсолютная, необходимо отметить, что государь является представителем народа, или уполномоченным множеством, его право в этом качестве есть право народа, в котором он соучаствует при помощи доверия народа. Его невозможно отнять у народа и передать государю, т.к. он находится не над вершиной, а на вершине политической структуры как часть, представляющая единое, а не отдельное целое.
Эта личность, которая назначена для отправления верховной власти в политическом обществе, обладающая данной властью по уполномочию, максимально соучаствует в естественном праве, которое есть у народа, но это не абсолютный монарх и не суверенный государь. В отношении политической власти в Средние века не использовалось соответствующее понятие, например, Фома Аквинский говорил о государе, но не о суверене [Фома Аквинский 1990: 112]. Ж. Маритен задает вопросы: как реально обстоят дела в отношении политического общества и государства? Он различает данные понятия; для него политическое общество есть целое, а государство – только его часть. Маритен дает следующее определение политическому обществу: это непосредственно человеческая реальность, стремящаяся к общему благу, а государство есть только часть политического общества, которая в наибольшей степени заинтересована в сохранении закона, поддержании общего благосостояния, общественного порядка и в управлении общественными делами [Маритен 2000: 72]. Следовательно, политическое общество обладает правом на полную внутреннюю автономию в отношении самого себя, а также других политических обществ. Это означает, что, обладая относительной независимостью, оно управляет собой и главенствует над какой-либо из его частей.
Ни одна из частей политического общества не может заменить собой целое, присвоив себе управление, и посягать на свободу его действия. Полная внутренняя автономия политического общества означает, что оно управляет собой, в относительном смысле обладает верховной властью, т.е. его власть главенствует над властью какой-либо из его частей. Ни одна из его частей не может заменить собой целое и посягать на верховную власть, обладающую органами управления, при помощи которых целое осуществляет самоуправление. В контексте мирового сообщества полная внешняя автономия политического общества означает, что его верховная независимость относительна, т.е. мировое общество – до тех пор, пока оно остается только в некотором смысле моральным обществом, – не существует в виде политического общества и, следовательно, не обладает собственной политической независимостью, не имеет права насильственным образом уменьшить его независимость. Следовательно, не существует такая власть, которая могла бы подчинить любое политическое общество до тех пор, пока оно не вступит в другое политическое общество более высокого порядка. Полная внешняя автономия политического общества означает, что оно может извне влиять на верховную власть в случае ведения войны, например с другим политическим обществом. Право политического общества на подобную полную автономию происходит от его природы как самодостаточного общества.
В случае когда политическое общество решает стать частью большего, например федеративного, политического общества, оно лишается своего права на полную автономию, несмотря на то что по праву обладает органической автономией [Сироткин 2009]. Ж. Маритен полагает, что право политического общества на полную автономию является естественным и неотчуждаемым в том смысле, что невозможно насильственным образом лишить политическое общество данного права. Но полная независимость сама по себе неотчуждаема, и политическое общество не может свободно отказаться от своего права на нее, если оно, например, осознает, что не является больше совершенным и самодостаточным обществом, и войдет в будущем в более крупное политическое общество. Полная автономия политического общества в результате станет заключать в себе первый элемент, который присущ подлинному суверенитету, т.е. неотчуждаемое и естественное право на верховную власть и верховную независимость. При этом полная автономия не заключает в себе второй элемент, т.е. трансцендентный характер верховной власти, власти как отделенного целого, т.к. политическое общество не имеет независимого и находящегося вне него самого органа управления. Его верховная независимость и власть только относительно верховны, т.к. соответствуют данному целому в отношении его частей, а также в отношении неорганизованной совокупности других целых.
Второй элемент, соответствующий подлинному суверенитету, не имеет отношения к понятию автономии политического общества: здесь государство представляет собой часть действующего органа политического общества, которое не обладает верховной независимостью по отношению к целому и верховной властью над целым. Оно также не обладает собственным правом на верховную независимость и верховную власть, но чем оно в таком случае может обладать? Это верховная независимость и власть по отношению к другим частям политического общества, подчиненным его законам и управлению. Государство обладает правом на данную относительную независимость, и на основании конституции, которую политическое общество для себя определило, власть передает их ему. Реализация подобного права государством остается подчиненной контролю политического общества, следовательно, в смысле суверенитета о верховной власти говорить невозможно. Что касается внешней сферы его деятельности, то здесь государство только представляет политическое общество, и под его контролем в отношении политического сообщества право на верховную независимость является таковым относительно. Ни первый элемент, который соответствует подлинному суверенитету, т.е. естественное неотчуждаемое право на верховную независимость и верховную власть, ни второй элемент, соответствующий подлинному суверенитету, – трансцендентный абсолютный характер данной независимости к государству невозможно применить [Миронюк 2024].
Власти, которые в подлинном суверенитете являются верховными, отдельно и вне целого, управляемого сувереном, не могут быть любым образом приписаны государству, т.к. оно не является и никогда не было подлинно суверенным; также не суверенен народ, это второй элемент, соответствующий подлинному суверенитету. Абсолютно и трансцендентно верховный характер независимости и власти не существует и в народе, т.к. это большое число человеческих личностей, которых объединяет область справедливых законов во имя общего блага человеческого существования. Они образуют политическое общество как единое целое, состоящее из людей, имеющих естественное и неотчуждаемое право на полную автономию, т.е. на относительно верховную независимость и власть по отношению к какой-либо части целого, состоящего из этих частей.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
Ж. Маритен полагал, что народ управляет собой с помощью чего-то, что находится вне него и над ним, следовательно, учение Жан-Жака Руссо (1712– 1778) о суверенной воле народа бессмысленно. По мнению Ж. Маритена, Ж.-Ж. Руссо не был демократом, а только ввел в зарождающуюся демократию понятие суверенитета, оказав на нее, таким образом, разрушительное воздействие [Руссо 1906: 92].
Перенос на народ утопической идеи неотчуждаемого права короля, который трансцендентно по отношению к народу осуществлял верховную власть, закончился на ранней стадии демократической философии, т.к. представители народа были превращены в простые орудия, лишенные права управления. Воля народа не суверенна в том ложном смысле, что все принятое, необходимое народу, должно иметь силу закона. Право народа на самоуправ- ление проистекает от естественного права, следовательно, само существование данного права подчинено естественному праву.
Если оно достаточно действенно, чтобы дать основное право народу, то оно также будет действовать и для того, чтобы дать будущие правила к реализации данного права. Таким образом, Ж. Маритен внес огромный вклад в критику теории суверенитета и определил тем самым облик послевоенной христианской демократии. В христианской демократии следствием критики суверенитета стала ее чувствительность к различного рода международным интеграционным проектам. Не случайно три отца-основателя Европейского союза – Конрад Аденауэр (1876–1967), Альчиде де Гаспери (1881–1954) и Робер Шуман (1886–1963) – придерживались идей христианской демократии.
Список литературы Критика понятия суверенитета в христианской демократии
- Боден Ж. 1999. Шесть книг о государстве. - Антология мировой правовой мысли в 5 т. Т. 2. Европа. V-XVII вв. М.: Мысль. 829 с.
- Галеев А.В., Черников О.В. 2024. "Лекции по юриспруденции" в контексте развития экономической теории Адама Смита. - Вопросы теоретической экономики. № 3. С. 122-138. EDN: UJTYKV
- Гоббс Т. 1991. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. - Сочинения в 2 т. (пер. с англ.). М.: Мысль. Т. 2. 732 с.
- Грачев Н.И. 2022. Особенности имперского суверенитета в исторической ретроспективе и перспективе. - Вестник Волгоградской Академии МВД России. № 2(61). С. 9-19. EDN: THJYYW
- Елиннек Г. 1903. Общее учение о государстве. СПб: Общественная польза. 532 с.
- Маритен Ж. 2000. Человек и государство (пер. с англ. Т. Лифинцевой). М.: Идея-Пресс. 196 с.
- Миронюк М.Г. 2024. Преемственность и изменчивость международных порядков и беспорядков. - Политическая наука. № 2. С. 55-80. EDN: VRJQFA
- Руссо Ж.-Ж. 1906. Об общественном договоре, или Принципы политического права. М.: Труд и воля. 131 с.
- Сироткин И.Г. 2009. Автономия как способ решения этнокультурных проблем: виды и средства воплощения. - Политэкс. Т. 5. № 3. С. 37-48.
- Фома Аквинский 1990. О правлении государей. - Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе VI-VII вв. Л.: Наука.