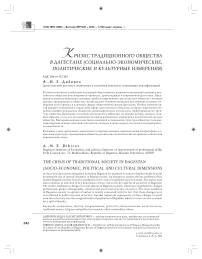Кризис традиционного общества в Дагестане (социально-экономические, политические и культурные измерения)
Автор: Дибиров Абдул-Насир Зирарович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Экономика и культура
Статья в выпуске: 2 (58), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье в контексте глобальных тенденций общественного развития и внутренней динамики российского общества анализируются процессы, происходящие в современном Дагестане. Предпринята попытка выявления ключевых проблем современного дагестанского общества с позиций кризиса традиционного общества. Автор уделяет основное внимание вычленению основных измерений этого кризиса в ключевых сферах общественной жизни Дагестана. Особое значение автор придаёт изменениям в социальной сфере дагестанского общества, которые существенно поменяли профессиональную, гендерную, демографическую, этническую, территориальную структуру общества. Кризисное состояние дагестанского общества, по мнению автора, связано, главным образом, с тем, что эти изменения не нашли адекватного отражения в политической системе общества. Ещё одним важным следствием изменений в социальной структуре общества стала массовая маргинализация населения республик, которая, в свою очередь, послужила основой раскола иден тич ности.
Архаизация, идентичность, маргинализация, охранительный авторитаризм, социальная структура, традиционное общество, религиозно-политический экстремизм, этнический национализм, этнос
Короткий адрес: https://sciup.org/14489705
IDR: 14489705 | УДК: 304.4+332.142
Текст научной статьи Кризис традиционного общества в Дагестане (социально-экономические, политические и культурные измерения)
ДИБИРОВ АБДУЛ-НАСИР ЗИРАРОВИЧ — доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Дагестан, ректор Дагестанского института экономики и политики (института повышения квалификации)
DIBIROV ABDUL-NASIR ZIRAROVICH — Full Doctor of Political Sciences, Professor, Honored worker of science of the Republic of Dagestan, Rector of Dagestan Institute of Economics and politics (Institute of improvement of professional skill)
В современном мире все более очевидным становится вычленение двух основных субъектов мировой политики и международных отношений — транснациональной международной элиты и национальных государств. Только сильное национальное государство может противостоять растущему транснациональному давлению. А в условиях слабой экономики оно не может не принимать форму охранительного авторитарного политического режима. Возникновение охранительного авторитаризма не является чем-то случайным, это естественная реакция общества на кризисную ситуацию, по сути, это обращение к прошлому опыту, который оказался успешным при преодолении прошлых кризисов. Это не значит, что такой выбор является лучшим, но это означает, что на данном этапе не выработано обществом другой, более эффективной идеи или такая идея имеется в наличии, но её реализация чревата другими кризисами, угрожающими или обществу в целом, или его значимым сегментам. Главная проблема, которая возникает при утверждении охранительного режима, заключается в том, что такой режим, опирающийся на прошлый опыт, сформировавшийся в более простых исторических условиях, не может обеспечить эффективное и адекватное управление на длительную перспективу. Охранительный авторитаризм выступает в конечном счёте средством обуздания кризиса традиционного общества. С одной стороны, он обеспечивает целостность государства, оберегая его от разноса по этническим или конфессиональным признакам, с другой стороны, охранительный авторитаризм является серьёзным препятствием на пути модернизации общества, на пути его движения к современности. При этом следует иметь виду, что и в том, и в другом качестве он не может быть долговечным, срок существования такого режима в полной мере зависит от степени кризиса традиционного общества. Под крылом охранительного авторитаризма как реак- ция на кризис традиционного общества вызревают процессы архаизации. Поскольку кризис традиционного общества в первую очередь бьёт по базисным ценностям личности, которые определяли его идентичность, то в целях сохранения идентичности личность, а то и целые социальные группы обращаются к архаике. При этом следует различать архаизацию, как реакцию на кризисное состояние общества, и архаизацию, как реакцию на модернизационные процессы, инициированные сверху и слабо согласованные с традициями общества. На практике же мы имеем дело с социальными процессами, возникающими на стыке кризиса традиционного общества, модернизации и встречного процесса архаизации. Степень архаизации зависит, очевидно, от степени и масштаба кризиса в первом случае или модернизации во втором случае. При этом следует иметь в виду, что в тех обществах, где модернизационные процессы оказываются успешными, появляются схожие ценности, закрепление и стабилизация которых происходит в последующих поколениях.
Кризис традиционного общества сопровождается охранительным авторитаризмом и архаизацией обычно в тех условиях, когда обществу не предложена целостная идеология модернизации общества, воспринятая большинством населения страны и легитимирующая тем самым временные ограничения демократии в целях сохранения национальной государственности.
Отсутствие идеологии модернизации сегодня существенно ослабляет позиции существующего в России охранительного политического режима, делает его объектом критики не только со стороны либерального Запада, но и внутренней оппозиции, в том числе оппозиции конструктивной.
Идеологическая импотенция власти способствует тому, что кризис традиционного общества затягивается, вовлекая в орбиту архаизации новые сферы общественной жизни. Наиболее опасными с точки зрения единства и целостности российского государства являются процессы роста русского этнического национализма и встречного национализма других этносов страны, принимающего на практике в мусульманских регионах форму религиозного фундаментализма. Очевидно, русский этнический национализм и радикальный исламский фундаментализм — это проявления неадекватной реакции на инновации в традиционном обществе, а в плане архаики выступают как отголоски древнейшей формы племенной вражды. Это то, что в своё время американский футуролог Э. Тоффлер назвал футуро-шоком, шо ком бу ду ще го.
В Дагестане [3] кризис традиционного общества затянулся, по сути, уже на четверть века. Он затронул практически все сферы общественной жизни — экономическую, социальную, политическую и духовную. При этом модернизационные позывы носят всегда запоздалый характер, что имеет своим следствием вымывание из республики кадрового потенциала модернизации. Одновременно наблюдается рост архаики, хотя считать процессы архаизации исключительно отрицательным явлением, тоже, на мой взгляд, не следует. Всё-таки на определённых этапах архаизация выступала и как механизм выживания, и как механизм социального регулирования в условиях общеполитической нестабильности.
В экономике в Дагестане кризис привёл к закрытию промышленных предприятий, резкому росту сферы торговли и услуг, ликвидации крупных аграрных хозяйств, повсеместному утверждению в сельской местности натурального хозяйства, отсутствию спроса на современную производительную технику, потери исторически сложившегося баланса между равниной и горами, привнесению на равнину культуры хозяйствования, сложившейся в высокогорной местности (например, в Кизлярском и Тарумовском районах вырубаются сады, виноградники, освобождают площади для выпаса скота) и т.д. По большому счету, в эти годы произош- ла утрата населением республики основных экономических ориентиров, следствием чего явилось обращение к формам хозяйствования доиндустриальных обществ, прежде всего к торговле, а на место производства встало чистое потребление.
В социальной сфере, прежде всего в социальной структуре дагестанского общества, произошли существенные изменения, которые не нашли своего отражения в политической системе. Радикально изменились профессиональный, демографический, гендерный, классовый и этнический состав населения республики. Экстремизм во многом является и следствием обострения в последние десятилетия про бле мы от цов и детей в нашей республике. Родители, чьё мировоззрение сформировалось в атеистические советские годы, оказались не готовы к религиозному ренессансу девяностых годов. В результате мы получили поколение, чья вера не сформировалась естественным путём, когда она переходит от родителей к детям, от отца к сыну, от матери к дочери, а была воспринята случайным путём — либо по ваххабитской литературе, либо от недоучек-сверстников, либо от малограмотных имамов мечетей. Вера и эт-ничность — это основы человеческой идентичности, поэтому они должны исходить от родителей . В противном случае, новообращённые вместо действительных глубин веры воспринимают и воспроизводят в своей религиозной практике крайности веры, кажимое принимается за действительное, явление за сущность.
В республике за годы атеизма во многом была утеряна религиозная культура, основанная на обожествлении нравственного отношения к миру. В этих условиях вера начинает приобретать фанатичный характер, толкая новообращённых на такие поступки и деяния во имя веры, которые запрещены всеми Священными Писаниями. В дагестанском экстремизме на поверхность выходят самые тём ные глу би ны ве ры, особенно в последнее время, когда сын «заказывает» от- ца или брат убивает брата по религиозным причинам. И ислам, и христианство, и иудаизм запрещают во имя веры поднимать руку на отца, мать, брата, сестру (вспомним историю пророка Ибрагима и его сына Исмаила). Всевышний отвергает такую веру, Бог не принимает такой жертвенности ради веры. Бог указывает человеку те пределы, за которые его вера не может выходить. Это и есть те тёмные, мутные глубины веры, которые противны Богу и которые сегодня вышли на поверхность в практике дагестанского экстремизма.
Негативные последствия изменений в социальной структуре связаны с массовой маргинализацией населения. При этом следует различать в наших условиях социальную и этническую маргинализацию. Одним из факторов социальной маргинализации стал массовый исход населения из горной зоны. Мигранты в нашей республике заселяют в основном окрестности крупных городов, образуя посады, где утверждается некий промежуточный образ жизни, в котором сочетаются как элементы сельской жизни, так и элементы городской жизни. Происходит размывание ценностей, утверждаемых и контролируемых сельской общностью. В условиях ослабления контроля со стороны традиционной общности, а то и его полного отсутствия, эти ценности, формировавшие в компактных общностях естественный социальный порядок, перестают быть в новых условиях регуляторами такого порядка. Здесь, наряду с размыванием традиционных ценностей, не происходит одномоментного утверждения ценностей городского образа жизни, прежде всего законопослушания. Неустойчивость социального статуса, противоречивость, а то и внутренний антагонизм в самоопределении и самоидентификации, двойственность сознания в условиях отсутствия устоявшихся идейно-ценностных ориентиров делают маргинала чувствительным к малейшим кризисным ситуациям, подверженным внешнему влиянию, быстро впадающим в панику и готовым к быстрому восприятию настроений большинства, особенно толпы. Маргинальная среда в силу своего промежуточного положения является наиболее подходящей средой для вызревания экстремистских настроений. Говоря об этнической маргинализации, мы исходим из того, что в последние десятилетия появилось целое поколение дагестанцев в городах республики, которое потеряло большинство объективных признаков, позволяющих отнести их к той или иной народности республики. Это касается не только языка и особенностей культуры, но и всего комплекса обычаев, уклада жизни. Подрастающее поколение, проживающее в городах, как правило, не знает родного языка. Если кто-то и владеет разговорным языком, то ни читать, ни писать на родном языке они не умеют. Соответственно, им закрыт доступ к культуре своего народа, они перестают быть её носителями. Остаётся лишь самоназвание, то есть я — лакец, я — кумык, я — лезгин и т.д. Главное же заключается в том, что в основе самоидентификации лежат не столько некие рациональные посылки, сколько эмоциональные. Учитывая то, что уже сегодня в республике большинство жителей живёт в городах и тенденции роста городского населения в обозримой перспективе будут сохраняться, именно «пятнадцатая народность» уже сегодня определяет и — чем дальше, тем больше — будет определять содержание, характер и динамику политического пространства в республике. По сути, этнические маргиналы превращаются в доминирующий социальный слой республики. Тем важнее учитывать в политической практике республики негативные стороны эмоциональной самоидентификации этой растущей массы людей. Во-первых, поскольку здесь групповое поведение имеет скорее эмоциональную, чем рациональную основу, таким поведением легко манипулировать в корыстных политических интересах. В своё время вдохновителями основных идей национальных движений являлись именно представители городской интеллигенции, оторванной от объективных корней собственного этноса. Эмоциональный характер самоидентификации делает их легковозбудимыми, способными на быструю мобилизацию. Во-вто рых, эмоциональная самоидентификация не является достаточно прочной, она подвержена изменениям и перепадам. Она может меняться под влиянием политических партий, институтов и интеллектуалов, которые, конструируя этнические, мировоззренческие и культурные различия, внедряют их в головы людей с неустоявшейся идентичностью. В-третьих, эта категория людей, как это ни парадоксально, наиболее подвержена всяким националистическим «заскокам». Оторванные от действительной национальной почвы, с ослабленной генетической памятью, живущие больше мифами о предках и истории собственного народа, они склонны воспринимать в гипертрофированном виде даже маленькие проблемы, возникающие на национальной основе, или же интерпретировать многие общественные проблемы сквозь призму национализма. Ведь в этой среде представления о другом народе формируются не на основе знаний о культуре и быте народа, а в большей степени на основе слухов, мифов, штампов, предубеждений и даже анекдотов. Не имея собственной идентичности, не обладая знаниями родного языка, не будучи носителями культуры своего народа, они в большей степени склонны относится с пренебрежением и к культурному своеобразию других [2].
В политике следствиями кризиса традиционного общества становятся делегитимация основных институтов существующей политической системы, возрождение архаичных форм управления общественными процессами и политического регулирования конфликтов. Основная масса людей сегодня лишена возможности участвовать в политическом процессе. Существующий политический режим в Дагестане легитимирован, на мой взгляд, двумя факторами — авторитаризмом и безразличием. С одной стороны, режим достаточно длительное время демонстрирует свою эффективность в кризисных ситуациях и обеспечивает относительную стабильность в обществе, с другой — режим не создал систему обратной связи общества и власти, не создал механизмы влияния общества на власть. У нас система легитимизации деформирована: на выходе — авторитет власти в виде решений и распоряжений, а на входе — апатия и безразличие. Режим не смог создать в республике системную оппозицию, которая, признавая общие правила игры, занималась конструктивной критикой и публично предлагала альтернативы. Оппозиция начинает консолидироваться за пределами системы, принимая формы политического и религиозно-политического экстремизма. Экстремизм подменяет общую идею государственности на ту, которая отвечает его представлениям о власти и обществе. В этих условиях терроризм в отношении инакомыслия возводится в ранг справедливости. Обращение к архаичным формам управления — джаматам, съездам народов Дагестана, создание всякого рода землячеств меняют политическую культуру, способствуя проникновению в повседневную практику работы государственных структур догосударственных форм и структур. Архаизация политических практик проявляется и в том, что происходит, по существу, легализация в политике криминала, а коррупционная сеть становится всеохватной. Анализ практики политических режимов ряда субъектов Северо-Кавказского федерального округа невольно заставляет припомнить давнее высказывание М. Бакунина о бонапартистском политическом режиме во Франции в 1851—1871 годах. Он писал, что этот режим «не является по сути ни принципом, ни политическим течением, не вызван каким-либо интересом в экономическом и политическом развитии страны. Просто-напросто ... банда разбойников, воспользовавшись глубокими разногласия- ми между классами французского общества, ночной порой внезапно и дерзко овладела Францией и, захватив власть, удерживала её двадцать лет … У него есть лишь одно средство, но очень сильное: коррупция, которая, впрочем, изобретена не бонапартистами, но получена им как историческое наследие — единственное, которым бонапартизм сумел воспользоваться и продуктом которого стал сам» [1].
В духовной сфере так сложилось, что под влиянием различных регионально-временных цивилизаций дагестанская идентичность обрела определённую двойственность. Сегодня эта двойственность доведена до своей крайней степени — она расколота. Раскол идентичности происходит на фоне утраты культурных ориентиров и распада цивилизационной идентичности. Расколота наша духовность. Безусловно, что в формировании нашей идентичности огромную роль сыграла исламская цивилизация. В современном Дагестане религия все больше становится неким символом, знаменем, которое используется для консолидации определённых социальных групп общества в борьбе за власть и богатство. Салафизм стал знаменем в большей степени маргинализированной части дагестанского общества, лишённой во многом доступа к реальной власти и распределению общественного богатства, а традиционный ислам используется старыми социальными структурами для сохранения собственных позиций. Очевидно, что такое положение дел наносит, главным образом, удар по самой религии, исполнению её основного предназначения в обществе. Главное же заключается в том, что быстротечность и радикальность изменений в религиозной структуре дагестанского общества также превратили раскол в существенный фактор политической жизни общества. При анализе процессов десекуляризации дагестанского общества следует иметь в виду, на мой взгляд, то, что народы Дагестана приняли ислам тогда, когда они уже находились в своём развитии на эта- пе цивилизации. Наши народы имели уже свою государственность, действовали политические нормы и законы, многие из них даже имели монотеистическую религию — православно-христианскую, армяно-григорианскую или иудаистскую. В Дагестане сохранились памятники зороастризма, элементы зороастризма обнаруживаются также в фольклоре народов Дагестана [4]. Многие письменные и археологические источники свидетельствуют о том, что ещё в первом тысячелетии нашей эры, ещё до арабского нашествия, культура народов Дагестана развивалась по восходящей линии и была сопоставима с культурой сопредельных народов и стран. Сохранение светского характера Дагестана возможно на пути возрождения религиозной культуры, которая была исторически присуща дагестанскому обществу, а также благодаря широкому вовлечению дагестанской молодёжи в активную экономическую жизнь.
Утерянные традиции религиозной культуры приводят к тому, что вера начинает принимать форму фанатизма, новообращённый оказывается в плену обрядовости, ритуалы и внешняя форма заслоняют от него действительную сущность религии. На религиозной почве вызревает реальный конфликт поколений. Для новообращённого, особенно молодого, перестаёт существовать авторитет старшего, даже авторитет родителей, которые не воспринимают религиозный фанатизм нового поколения. Для того чтобы вера стала частным делом каждого, а не социальной нормой, каждый отдельный человек должен иметь возможность практиковать свою индивидуальность. Это уже вопрос экономической состоятельности. По мере роста экономических основ индивидуальной свободы будет меняться и роль веры, будет утверждаться понимание того, что вера — это сфера личной жизни человека, а не государства и общества.
В современном Дагестане стремление к реформам, сопровождаемое архаизацией, создаёт картину раскола и конфронтации в обществе. Преодоление этого состояния общества в во многом зависит от зрелости институтов гражданского общества, от интенсивности общественного диалога, который, как показывает мировая практика, реализуется обычно в форме договора общественного или национального согласия. В условиях дефицита диалоговых форм, что сегодня мы и наблюдаем в Дагестане, архаичная культура начинает сокрушать на своём пути все иные формы, особенно ориентированные на прогресс. К сожалению, сегодня в республике потенциал архаизации выше, чем потенциал модернизации, и связанно это, прежде всего, со слабостью системы местного управления, который полностью отстранился от системы духовного и культурного воспитания населения.
Список литературы Кризис традиционного общества в Дагестане (социально-экономические, политические и культурные измерения)
- Бакунин М. А. Государственность и анархия. Москва, 1996.
- Дагестан и дагестанцы: взгляд на себя: сборник статей/под ред. А.-Н. З. Дибирова. Москва: РОССПЭН, 2013.
- Двадцать лет реформ: итоги и перспективы/под общей ред. члена-корр. РАН М. А. Горшкова и проф. А.-Н. З. Дибирова. Махачкала. 2011.
- Курбанов М. Р., Курбанов Г. М. Религии в истории народов Дагестана. Махачкала, 2006.