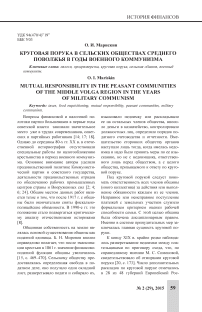Круговая порука в сельских обществах Среднего Поволжья в годы военного коммунизма
Автор: Марискин Олег Иванович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: История финансов
Статья в выпуске: 2 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется насильственное восстановление советской властью круговой поруки в сельских обществах в годы военного коммунизма.
Налоги, продразверстка, круговая порука, сельская община, военный коммунизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14723767
IDR: 14723767 | УДК: 94(470/4)”19”
Текст научной статьи Круговая порука в сельских обществах Среднего Поволжья в годы военного коммунизма
Вопросы финансовой и налоговой политики партии большевиков в первые годы советской власти занимали значительное место уже в трудах современников, советских и партийных работников [14; 17; 18]. Однако до середины 80-х гг. XX в. в отечественной историографии отсутствовали специальные работы по налогообложению крестьянства в период военного коммунизма. Основное внимание авторы уделяли продовольственной политике Коммунистической партии и советского государства, деятельности продовольственных отрядов по обеспечению рабочих промышленных центров страны и Вооруженных сил [2; 4; 6; 24]. Общим местом данных работ является тезис о том, что после 1917 г. с общины были окончательно сняты фискальнополицейские обязанности. В 1990-е гг. это положение стало подвергаться критическому анализу отечественными историками [8].
Общинная собственность на землю являлась основой существования общины как податной единицы. Б. Н. Миронов вполне справедливо полагает, что после эмансипации крестьян в 1861 г. значение финансовоподатной функции общины увеличилось [15, с. 469–470]. Сельскому обществу предоставлялась определенная свобода в податном деле, оно получало один окладной лист, разверстывало подати и собирало их, взыскивало недоимку или раскладывало ее на остальных членов общества, вносило деньги в казначейство, контролировало должностных лиц, определяло порядок податного счетоводства и отчетности. Вмешательство сторонних обществу органов наступало лишь тогда, когда имелась недоимка и надо было принять меры по ее взысканию, но не с недоимщика, ответственного лишь перед обществом, а с целого общества, призываемого к ответу по круговой поруке.
Под круговой порукой следует понимать ответственность всех членов общины (иного коллектива) за действия или выполнение обязанности каждым из ее членов. Исправное или неисправное поступление платежей с земельных участков служило формальным критерием оценки рабочей способности семьи. С этой целью община была облечена дисциплинарным правом. Именно в системе принудительных мер заключалась главная сущность круговой поруки.
К концу XIX в. крайне редко наблюдалось разверстывание недоимки между плательщиками по приговору схода, что, по справедливому мнению М. С. Симоновой, свидетельствовало об отмирании круговой поруки [20, с. 173]. Число дополнительных раскладок по круговой поруке отмечалось в 28 из 48 губерний Европейской Рос- сии (58,3 %). Законопроектом от 12 марта 1903 г. уплата окладных сборов переносилась на личную ответственность каждого домохозяина как с общинным, так и подворным (наследственным) владением землей. Наконец, в 1906 г. была отменена особая мера взыскания сборов и повинностей, заключавшаяся в отдаче неисправного плательщика в заработки и назначении к нему опекуна. Одновременно с этим отменены и все ограничения, предусмотренные Уставом о паспортах для сельских обывателей и лиц, бывших податных сословий, которые, таким образом, были уравнены с прочими сословиями.
«Черный передел» практически всех сельскохозяйственных земель в 1918 г. означал, во-первых, «осереднячивание» крестьянского хозяйства, натурализацию производства, ослабление рыночных связей и в итоге демодернизацию страны; во-вторых, возрождение сельской общины, которая к 1922 г. на территории РСФСР охватывала 98–99 % всех крестьянских земель [7, с. 108].
Отстранение в первые годы военного коммунизма советской власти от непосредственного взимания налоговых сборов в деревне привело к усилению податных функций общины. Местные Советы и государство насильно перекладывали фискальные сборы на общину, используя традиционный разверсточный механизм и коллективную, круговую ответственность. Круговая порука в значительной степени применялась при изъятии продовольствия (продразверстка) и гораздо меньше – при взимании денежных налогов (главным образом чрезвычайного революционного налога). Сходы определяли также порядок и очередность выполнения натуральных повинностей (дровяная, трудовая, гужевая и т. п.) и несли ответственность за их исполнение. Круговая порука в сельских обществах использовалась и при мобилизациях, поимке дезертиров, «бандитов» (повстанцев крестьянских восстаний) и т. д.
Если в 1918 г. при реквизиции продовольствия наблюдались единичные случаи применения коллективной ответственности общины (при активной роли комитетов бедноты в разверстке продуктов), то в 1919–1920 гг. это явление было повсеместным, и практически везде она вводилась принудительным, вооруженным методом. Так, осенью 1919 г. в с. Ключищи (1 160 дворов) Симбирской губернии экспедиция П. К. Кагановича запретила въезд и выезд из села и приступила к повальному обыску; то же было проделано в другом большом селе – Солдатская Ташла (1 300 дворов). Селениям было ультимативно предложено немедленно выполнить 50 % разверстки по продовольствию и 100 % – по скоту. За три дня крестьянами был ссыпан хлеб и сдано свыше 1 000 голов скота [9, с. 30]. Особым циркуляром губпродкома от 14 октября 1919 г. всем райпродкомам Казанской губернии было рекомендовано в случае особого упорства или прямого отказа селений от выполнения разверстки «концентрировать силу, предъявлять угрозу и, решившись действовать, не допускать колебаний и идти до конца, применяя вооруженную силу» [16, л. 23]. Только в мае-декабре 1920 г. в Рузаевском уезде Пензенской губернии войска вводились в 4 волостях, в Наровчатском – в 6, Краснослободском – в 6, в Саранском – в 11 волостях.
В сообщении председателя Пензенского губпродсовещания Л. Ф. Фридрихсона наркому продовольствия А. Д. Цюрупе о ходе выполнения продразверстки в Пензенской губернии от 23 января 1920 г. подчеркивалось: если к сроку обществом, волостью разверстка не выполнялась, арестовывался волостной сельский Совет. Туда вводилась вооруженная сила, предъявлялось ультимативное требование «в порядке боевого приказа» к выполнению всей разверстки в кратчайший срок – два-три дня, по истечении которого приступали к поголовной реквизиции, «начиная таковую у кулацкого элемента, без оставления каких-либо норм, пока не будут собраны все сто процентов разверстки; у лиц, у которых обнаружены скрытые запасы, конфискуются лошади, скот, все продовольственные продукты, владельцы арестовываются» [13, с. 339–340].
Выполнение продразверстки всегда держалось «на силе штыка». Так, в начале осени 1920 г. в Пензенской губернии действовали 90-й (728 чел.) и 91-й (572 чел.) отдельные стрелковые батальоны 11-й стрелковой бригады войск внутренней охраны [5, л. 3–4]. В Самарской губернии насчитывалось 2 519 чел. вооруженной силы, в том числе отряды военпродбюро – 1 192 штыков, ВОХРа – 613, военкома – 480, при заградительных постах – 204 [19, л. 68]. Всего в ноябре 1920 г. в Среднем Поволжье действовало 11 батальонов: в Татарской Республике – 964 чел., Чувашской – 264, Симбирской губернии – 1 537, Пензенской – 1 283, в Самарской – 1 165 чел. [19, л. 30].
На насильственное восстановление центральной властью коллективной ответственности при сборе продразверстки в силу того, что промышленность была не в состоянии производить достаточное количество промышленных товаров, чтобы наладить обычный процесс товарообмена, указывает в своей работе и Э. Карр [10, с. 524]. Селения, которые полностью и своевременно исполняли все полагающиеся разверстки, вознаграждались тем, что им оказывалось предпочтение при распределении мануфактуры. В докладе от 2 декабря 1919 г. о выполнении продразверстки особо уполномоченного Наркомпрода в Самарской губернии А. П. Галактионова отмечалось: «На все сданные крестьянством продукты установлен коллективный товарообмен… Как только крестьянское общество выполнит предъявляемые ему обязательства, оно немедленно должно получить товар; причем те общества, которые выполняют хлебную разверстку в количестве 30 % до 1 ноября получают 60 % товара» [Цит. по: 1, с. 81].
Круговая порука при сборе продразверстки использовалась как в производящих, так и в непроизводящих губерниях России, что отмечается в монографическом описании Горицкой волости Тверской губернии А. М. Большакова: «В селениях же сход домохозяев определял, кому из домохозяев и сколько надо было платить. Так как все были связаны общей ответственностью, круговой порукой и никакой скидки с определенного в разверстку не полагалось, то сходы эти были чрезвычайно шумливые, иногда даже кончалось дракой: всякому хотелось заплатить возможно меньше, но тогда сосед должен был платить больше. Учитывали друг друга до тонкостей – если ты, например, держал собаку, то тебе это ставили на вид, говорили: “Ты можешь собаку кормить, значить – ты и заплатить больше моего можешь”» [3, с. 67].
В. В. Кабанов, указывая на факт, что на общину падала главная тяжесть обеспечения выполнения продразверстки, отмечает ее несомненную выгодность для государства, ибо община гарантировала относительную стабильность и надежность изъятия хлеба. С другой стороны, такое изъятие не отвечало принципам большевиков с точки зрения проведения так называемой классовой линии [8, с. 88]. У общины были совершенно иные принципы разверстки. Раскладка продразверстки осуществлялась сходом в основном по подушному принципу обложения, которое соизмерялось с землепользованием крестьян. Например, в Аксеновской волости Саранского уезда Пензенской губернии 30 сентября 1918 г. был установлен сбор денег на медикаменты – с каждого человека по 1 руб. 25 коп., за лошадь – 3 руб., за корову – 2 руб. В случае уклонения от уплаты сборов имущество населения волости могло подвергнуться описи и продаже [11, с. 243].
В то же время сбор силовыми методами контрибуций, единого чрезвычайного налога, проведение продразверстки, трудовой, гужевой и других повинностей усилили общность интересов крестьянства, выразившуюся в массовых вооруженных сопротивлениях грабительской политике государства. В общей сложности в Пензенской, Симбирской, Самарской, Казанской губерниях в 1918 г. произошло 66, в 1919 г. – 53, в 1920 г. – 61 крупное крестьянское выступление: в 51,1 % случаев их причиной было недовольство продовольственной политикой советской власти, в 11,1 % – налогами и различными повинностями (гужевой и трудовой) [12, с. 112, 117].
Несмотря на массовые выступления, советское правительство, привыкшее к жестким мерам по отношению к деревне, продолжало проводить политику продразверстки при активном использовании круговой поруки. Примечательно, что еще 4 февраля 1920 г. в докладной записке в ЦК РКП(б) Л. Д. Троцкий писал: «Нынешняя политика уравнительной реквизиции по продовольственным нормам, круговой поруке при ссыпке и уравнительного распределения продуктов промышленности направлена на понижение земледелия, на распыление промышленного пролетариата и грозит окончательно подорвать хозяйственную жизнь страны» [23, с. 198–199]. В связи с этим он предлагал заменить продразверстку процентным отчислением, своего рода подоходно-прогрессивным натуральным налогом. Это предложение было результатом практического знакомства с положением дел в деревне. Троцкий не получил поддержки: за его предложение проголосовали 4 члена ЦК, против – 11. В. И. Ленин также высказался против отмены продразверстки.
О широком распространении коллективной ответственности в период военного коммунизма говорит и тот факт, что при отмене продразверстки в Декрете ВЦИКа от 21 марта 1921 г. «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» специально оговаривалась ликвидация круговой поруки: «Ответственность за выполнение налога возлагается на каждого отдельного хозяина, и органам Советской власти поручается налагать взыскания на каждого, кто не выполнил налога.
Круговая ответственность отменяется» [21].
По верной оценке В. П. Данилова, в условиях нэпа поземельная община значительно обновилась. Реакционные черты (фискальный характер и круговая порука, крепостническая привязанность земледель- ца к своей общине) были аннулированы. Крестьянская община как поземельная соседская организация равноправных мелких производителей стала действительно свободным союзом крестьян в пользовании землей. Однако, предоставляя крестьянину возможность несколько дольше продержаться на уровне того «идеализированного капитализма», к которому он долго стремился и, наконец, достиг, община вместе с тем обрекала его хозяйство на застой [7, с. 117].
Круг полномочий поземельной общины на весь период нэпа юридически закрепил Земельный кодекс РСФСР 1922 г. [22]. Община могла устанавливать порядок землепользования, принимать постановления о производстве землеустройства, производить переделы и разверстки и т. п. В ее непосредственном распоряжении находились все угодья общего пользования: воды, неудобные земли и др. Земельные общества имели право юридического лица, т. е. могли приобретать и продавать имущество, заключать договоры, предъявлять иски и отвечать на суде, ходатайствовать в других учреждениях. Соответствующие разделы кодекса устанавливали положение о земельном обществе (составе, органах управления и т. д.), о крестьянском дворе – трудовом земледельческом хозяйстве (составе, порядке раздела и мерах против измельчения). Мирской сход был в этот период демо-кратизован: полноправным членом его являлись все землепользователи без различия пола, достигшие 18-летнего возраста.
Насильственная ломка традиционного института в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства говорит о том, что сельская община не исчерпала себя, как считают некоторые исследователи, имела внутренние резервы для саморазвития и совершенствования. В целом общину необходимо рассматривать как динамичную структуру, во всяком случае – как неотъемлемую часть российского общества на протяжении длительного периода истории.
Список литературы Круговая порука в сельских обществах Среднего Поволжья в годы военного коммунизма
- Андреев В. М. Под знаменем пролетариата: Трудовое крестьянство в годы Гражданской войны/В. М. Андреев. -М., 1981.
- Бабурин Д. С. Наркомпрод в первые годы Советской власти/Д. С. Бабурин//Ист. записки. -1957. -№ 61. -С. 333-369.
- Большаков А. М. Советская деревня (1917-1925 гг.). Экономика и быт/А. М. Большаков. -Л., 1925.
- Гимпельсон Е. Г. Военный коммунизм: политика, практика, идеология/Е. Г. Гимпельсон. -М., 1973.
- ГАПО. -Ф. Р.-9. -Оп. 1. -Д. 145.
- Давыдов М. И. Борьба за хлеб. Продовольственная политика Коммунистической партии и Советского государства в годы Гражданской войны (1917-1920)/М. И. Давыдов. -М., 1971.
- Данилов В. П. Об исторических судьбах русской крестьянской общины/В. П. Данилов//Ежегодник по аграрной истории: Проблемы истории русской общины. -Вологда, 1976. -С. 102-134.
- Кабанов В. В. Крестьянская община и кооперация России XX века/В. В. Кабанов. -М., 1997.
- Каганович П. К. Как достается хлеб: доклад уполномоченного ВЦИК по реализации урожая 1919 года в Симбирской губернии/П. К. Каганович. -М., 1920.
- Карр Э. История Советской России. Кн. 1. Большевистская революция. 1917-1923 г./Э. Карр. -М., 1990. -Т. 1.
- Комитеты бедноты. -М.; Л., 1933. -Т. 1.
- Кондрашин В. В. Крестьянское движение в Поволжье в 1918-1922 гг./В. В. Кондрашин. -М., 2001.
- Крестьянское движение в Поволжье. 1919 -1922 гг.: документы и материалы/под ред. В. Данилова и Т. Шанина. -М., 2002.
- Любимов Н. Единовременный чрезвычайный налог/Н. Любимов. -Петроград., 1919.
- Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII -начало XX в.)/Б. Н. Миронов. -СПб., 1999. -Т. 1.
- НАРТ. -Ф. Р.-3451. -Оп. 1. -Д. 131.
- Орлов Н. Продовольственное дело в России во время войны и революции/Н. Орлов. -М., 1919.
- Потяев А. Финансовая политика Советской власти/А. Потяев. -М., 1919.
- РГАЭ. -Ф. 1943. -Оп. 6. -Д. 1431.
- Симонова М. С. Отмена круговой поруки/М. С. Симонова//Ист. записки. -1969. -Т. 83. -С. 159-195.
- СУ РСФСР. -1921. -№ 26. -Ст. 147.
- СУ РСФСР. -1922. -№ 68. -Ст. 901.
- Троцкий Л. Д. Моя жизнь: Опыт автобиографии/Л. Д. Троцкий. -Берлин, 1930.
- Юрков И. А. Экономическая политика партии в деревне. 1917-1920/И. А. Юрков. -М., 1980.