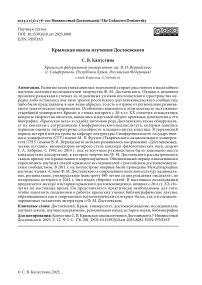Крымская школа изучения Достоевского
Автор: Капустина С.В.
Журнал: Неизвестный Достоевский @unknown-dostoevsky
Статья в выпуске: 3 т.12, 2025 года.
Бесплатный доступ
Развитие коммуникационных технологий стирает расстояния в масштабном научном полилоге исследователей творчества Ф. М. Достоевского. Однако в недавнем прошлом разыскания ученых из отдаленных уголков постсоветского пространства нередко либо оставались вне поля зрения российского достоевсковедческого сообщества, либо были представлены в нем лишь абрисно, то есть в отрыве от регионально развиваемого тематического направления. Особенного внимания в этом контексте заслуживает старейший университет Крыма, в стенах которого с 20-х гг. XX столетия осмыслялись вопросы творчества писателя, вводились в научный оборот архивные дополнения к его биографии. «Крымская веха» в судьбах потомков рода Достоевского также обнаруживает их контакты с сотрудниками Симферопольского пединститута, которым довелось первыми оценить литературные способности младшего внука классика. В украинский период истории полуострова на кафедре литературы Симферопольского государственного университета (СГУ) имени М. В. Фрунзе (Таврического национального университета (ТНУ) имени В. И. Вернадского) активно развивалось направление «Достоевсковедческие штудии», инициатором которого стала кандидат филологических наук, доцент Г. А. Зябрева. С 1992 по 2014 г. под ее научным руководством было защищено шесть кандидатских диссертаций, в которых творчество Ф. М. Достоевского рассматривалось сквозь призму его православного мироощущения. Обозначенный период ознаменовался укреплением научных связей крымских исследователей с российским достоевсковедческим сообществом. В 2011 г. на полуострове впервые были проведены Международные научные чтения «Слово Ф. М. Достоевского в современном полилоге культур: национальное, региональное, универсальное (навстречу 190-летию со дня рождения писателя)», по материалам которого в 2012 г. был издан сборник статей. В настоящем исследовании предлагается экскурс в историю крымского достоевсковедения, начиная с 20-х гг. ХХ столетия по настоящее время. Он представляется практически необходимым для того, чтобы заполнить сведениями о работах крымских ученых библиографические лакуны, образовавшиеся как в современных наукометрических интернет-базах, так и в специализированных указателях литературы о Ф. М. Достоевском.
Достоевский, Крым, университет, достоевсковедение, исследователи, научная школа, научное направление, региональная наука, история науки, библиография
Короткий адрес: https://sciup.org/147252199
IDR: 147252199 | DOI: 10.15393/j10.art.2025.8081
Текст научной статьи Крымская школа изучения Достоевского
Н ога Ф. М. Достоевского никогда не ступала на благодатную землю Тавриды, хотя свидетельства о ее « роскошной сказочной природѣ » и о том, что « Крымъ <…> творитъ чудеса » превращения « изъ умирающихъ въ здоровые »1, писатель получал как из писем своих корреспондентов, так и из художественных2 и публицистических3 источников. Несмотря на отмеченную дистанцированность, и Крым был чуток к слову Ф. М. Достоевского: его немногочисленные послания сохранялись местными адресатами; упоминания о симферопольских потомках и событиях пост-биографии классика появлялись на страницах крымских газет; исследованию его творчества и литературных контактов посвящались разыскания тех авторов4, в чьих судьбах причерноморский полуостров сыграл важную роль.
Флагманом же достоевсковедения в Крыму по праву можно назвать старейший университет республики5. Разные поколения его ученых-славистов обращались к осмыслению биографии и наследия Ф. М. Достоевского. Успешная попытка систематизации этих работ предпринята в статьях Ю. А. Романова (см.: [Романов, 2012, 2013]), зафиксировавшего в Крыму «стабильный рост исследований, посвященных проблемам творчества Достоевского», который «начался со второй половины 1990-х годов и уверенно продолжился в первое десятилетие века нынешнего» [Романов, 2012: 12]. Обозначенные временные границы расцвета достоевсковедения в крымском университете, безусловно, совпадают с одной из наиболее заметных вех ее развития, однако в системно-историческом ракурсе они должны быть существенно расширены.
Особенного внимания заслуживает период становления достоевсковедческих штудий в Крыму, непосредственно связанный с архивными разысканиями профессора Евгения Вячеславовича Петухова. Его студенческие контакты6 с «другом и первым биографом Достоевского» [Борисова, 2019: 8] О. Ф. Миллером, думается, предопределили научный интерес к биографии писателя. В поисках решения «чрезвычайно трудной и вместе с тем увлекательной задачи» — «вскрытия отношений Достоевского к женщине, его ярких и глубоких переживаний, содержание и характер которых тесно связаны были с творческой художественной работой великого романиста», — известный крымский профессор исследовал «эпизод "Достоевский-Суслова"» [Петухов, 1928: 6–7]. Важно, что именно Е. В. Петухов поставил перед собой цель «представить некоторый новый материал, небезынтересный в этом остром и запутанном психолого-биографическом вопросе» [Петухов, 1928: 7], — и успешно ее достиг, введя в научный оборот текст письма Ф. М. Достоевского к Н. П. Сусловой от 19 апреля 1865 г. Исследование Е. В. Петухова «Из сердечной жизни Достоевского (Ап. Прок. Суслова-Розанова)», опубликованное в 1928 г. в «Известиях Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе» [Петухов, 1928], можно считать точкой отсчета в крымской «достоевско-ведческой линии», поскольку автограф письма — первая из обнаруженных в Госархиве Республики (Ф. 536. Оп. 1. Д. 94) реликвий, связанных с биографией писателя. Известно, что Е. В. Петухов рассказывал о своей ценнейшей находке на заседаниях Таврического общества истории, археологии и этнографии — «крымской краеведческой организации», сыгравшей «выдающуюся роль в сохранении и популяризации историко-культурного наследия Крымского полуострова» [Ишин: 186]. Исследователь С. Б. Филимонов отметил в протоколах заседаний ТОИАЭ два достоевсковедческих выступления Е. В. Петухова: «Из интимной жизни Ф. М. Достоевского» (24 марта 1928 г.) и «Новое о Ф. М. Достоевском»7 (29 ноября 1930 г.) [Ишин: 187].
К обнаруженному Е. В. Петуховым письму Ф. М. Достоевского к Н. П. Сусловой обращались и последующие поколения крымских ученых. Так, профессор-литературовед Людмила Александровна Орехова значительно дополнила сведения о непосредственных и заочных участниках переписки
Ф. М. Достоевского и Н. П. Сусловой-Голубевой ценными архивными материалами (см.: [Орехова, 1998, 1999а, 1999b, 2004, 2013]). Указанное письмо она назвала источником, задающим «"программу" мифа об Аполлинарии, все более обогащающегося негативными трансформациями», а статью Е. В. Петухова, где оно было впервые опубликовано, охарактеризовала как «соответствующий комментарий, по которому сложные взаимоотношения Достоевского и Аполлинарии так или иначе объяснялись "мучительством" "суровой" и "непримиримой" А. Сусловой» [Орехова, 2013: 61–62]. Главным основанием для выстраивания линии защиты Аполлинарии от клейма фу-риозной инфернальницы стал для Л. А. Ореховой сохранившийся в Крыму архив А. Е. Голубева, в котором содержались письма разных адресантов8, помогающие «увидеть новые черты в психологическом портрете А. П. Сусловой» [Орехова, 2013: 72].
Архивные разыскания Е. В. Петухова были учтены как в фундаментальных указателях литературы о Ф. М. Достоевском9, так и в специализированных академических изданиях: в первом томе «Писем» Ф. М. Достоевского, вышедшем в 1928 г. под редакцией А. С. Долинина [Достоевский. Письма: 403–405, № 222, 577, примеч.]; во второй книге 28-го тома (1985) Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского в 30 томах [Д30; т. 28, кн. 2: 121–123, № 254, 419, примеч.]. Содержание впервые опубликованного Е. В. Петуховым письма Ф. М. Достоевского к Н. П. Сусловой неоднократно становилось предметом исследовательских обращений, а зафиксированное в нем признание писателя («Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее») было вынесено в эпиграф к книгам Л. И. Са-раскиной «Возлюбленная Достоевского. Аполлинария Суслова: биография в документах, письмах, материалах» и «Аполлинария Суслова» (серия биографий «Жизнь замечательных людей») [Сараскина, 1994, 2022].
Символично, что Е. В. Петухову, интересующемуся биографией Ф. М. Достоевского, было суждено сыграть определенную роль в биографии потомков последнего. Имя крымского профессора и заведующего кафедрой литературы старейшего крымского университета, вероятно, было известно невестке писателя — Екатерине Петровне Достоевской (Цугаловской). Косвенные доказательства их знакомства приводит автор примечаний к книге «Письма из Maison Russe…»: «В архиве А. Ф. Достоевского сохранились справки, свидетельствующие о том, что в декабре 1925 г. Екатерина Петровна "прошла экспертизу по английскому языку при Союзе Работников Просвещения
Крымской АССР" (эта справка заверена членом экспертной комиссии известным профессором Крымского пединститута Е. В. Петуховым)…» [Тихомиров: 249]. Если применить к участникам этого контакта известную социологическую теорию «шести рукопожатий», то получится удивительная цепочка знакомств, звеньями которой выступают разные поколения рода Достоевских (Ф. М. Достоевский — О. Ф. Миллер — (возможно, А. А. Достоевский) — Е. В. Петухов — Е. П. Достоевская)10.
Презентативно, что и другие сотрудники возглавляемой Е. В. Петуховым кафедры литературы имели контакты с потомками Ф. М. Достоевского. Об этом свидетельствует А. П. Фальц-Фейн в письме к В. С. Нечаевой от 16– 20 октября 1957 г. из Ментоны. Вспоминая о своем племяннике — младшем внуке Ф. М. Достоевского, — она отмечает его литературную одаренность:
«Андрей, если бы не увлекся механикой, тоже мог бы стать писателем.
Мгновенно писал короткие рассказы. Несмотря на его живой, веселый характер, содержание его рассказов было всегда очень тяжелое, что объясняется тем, что и его коснулось то тяжелое время: вокруг трупы, вражда» [Фальц-Фейн: 268].
Далее Анна Петровна будто бы аргументирует слова об открытой для племянника писательской стезе:
«Е<катерина> П<етровна> носила его рассказы проф<ессору> литературоведу Жирицкому, преподавателю Ун<иверсите>та. Он их очень одобрил и сказал, <что> если Андрей отдастся литературе, то из него выйдет писатель. К сожалению, он избрал другую дорогу» [Фальц-Фейн: 268].
В примечаниях к этому письму Б. Н. Тихомирова и Н. Н. Богданова указано, что Леонид Владимирович Жирицкий — «профессор Таврического университета, филолог, автор нескольких школьных учебников и методических пособий» [Фальц-Фейн: 268, сноска 54]11. Однако эти сведения не совсем точны: Леонид Владимирович Жирицкий (1874–1951) действительно работал на кафедре литературы Крымского пединститута, но доцентом, а не профессором. Л. А. Орехова и А. В. Дубровский доказывают достоверность этой информации, приводя архивные данные о составе кафедры в 1944 г., согласно которым « Жирицкий Леонид Владимирович , доцент, 1874 г. р., русский, б/п., в КГПИ 25 лет (общий педстаж 25 лет); в 1893 г. закончил Историко-филологический институт в Петрограде <…>; в эвакуации работал в Ярославском пединституте» [Орехова, Дубровский, 2019: 139]12.
«Повысить» крымского преподавателя в должности побудила, скорее всего, неверная расшифровка сокращения «проф.» из письма А. П. Фальц-Фейн. Обратим внимание, что в соответствии с версией интерпретаторов документа, в предложении с однородными членами должна была бы стоять запятая: «проф<ессору>(,) литературоведу Жирицкому». Не совсем логичной представляется и фраза «преподавателю Ун<иверсите>та», следовавшая после предполагаемой идентификации «профессор». Перечисленные нестыковки заставляют искать иной вариант расшифровки сокращения слова «проф.». Полагаем, что под «проф. литературоведу» Анна Петровна все же подразумевала «профессиональному литературоведу», кем объективно и был Леонид Владимирович Жирицкий — «доцент каф<едры> литературы, старейший преподаватель вуза» послевоенного периода [Орехова, Дубровский, 2018: 25].
Следует заметить, что на возрожденной в 1944 г. кафедре литературы Крымского пединститута трудилось пять представителей профессорско-преподавательского состава, трое из которых (включая Е. В. Петухова и Л. В. Жирицкого) имели отношение к достоевсковедению. Согласно плану научно-исследовательской работы на 1945 учебный год, «доцент М<ихаил> О<сипович> Румянцев готовил статью "Достоевский и реакция 70-х годов" (по публицистическим работам Достоевского)» [Орехова, Дубровский, 2019: 139], однако результаты его научных разысканий найти не удалось.
На кафедре Таврического национального университета им. В. И. Вернадско-го13, столетие назад возглавляемой Е. В. Петуховым, с 1992 по 2014 г. активно развивалось направление «Достоевсковедческие штудии». Его основателем стала доцент Галина Александровна Зябрева, под научным руководством которой в обозначенный период было защищено шесть кандидатских диссертаций по творчеству Ф. М. Достоевского14. Следует заметить, что интеграции крымского достоевсковедческого направления позднего украинского периода в российское научное сообщество способствовала в том числе работа открытого в Таврическом университете Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций (2000–2014). В заседаниях Совета, посвященных защитам по творчеству Ф. М. Достоевского, в качестве первых оппонентов принимали участие авторитетнейшие российские специалисты. В 2009 г. защите М. А. Кустов-ской (Шалиной) оппонировал президент Международного общества Ф. М. Достоевского, профессор В. Н. Захаров; в 2014 г., несмотря на сложные политические условия, в защитах крымских соискателей М. В. Поник и С. В. Капустиной принимали участие видные деятели российского достоевсковедческого сообщества — профессора С. А. Кибальник и Е. А. Федорова.
В 2011 г. в г. Саки в рамках X Международного симпозиума «Русский вектор в мировой литературе: крымский контекст» впервые были организованы Крымские международные научные чтения «Слово Ф. М. Достоевского в современном полилоге культур: национальное, региональное, универсальное (навстречу 190-летию со дня рождения писателя)», объединившие достоевсковедов из Симферополя, Евпатории, Москвы, Перми, Биробиджана и Харькова. Как результат работы Чтений в 2012 г. в Крымском центре гуманитарных исследований Таврического национального университета им. В. И. Вернадского был издан специальный выпуск межвузовского научного сборника «Вопросы русской литературы» [Слово Достоевского…].
Открывала выпуск в рубрике «От редактора» статья В. П. Казарина «Крым в духовных исканиях Ф. М. Достоевского», в которой утверждалось: «В Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского (в те времена — Симферопольский педагогический институт) одно время хранились рукописи Достоевского, поступившие в библиотеку в числе больших книжных и архивных сокровищ, реквизированных большевиками во дворцах и южнобережных усадьбах» [Казарин: 6]. Несмотря на отсутствие конкретики в названии рукописей и времени их хранения, замечание из профессорской работы звучало многообещающе — как возможная подсказка к разрешению тайны исчезновения манускриптов Ф. М. Достоевского из конфискованного в Севастополе у сына писателя чемодана. Однако верификация утверждения В. П. Казарина завершилась разочарованием: ни в одном из университетских каталогов подобных документов не зафиксировано, ни один из опытнейших хранителей библиотечного фонда о них не слышал.
Содержание сборника отличалось бóльшей достоверностью. Были представлены работы научного направления Г. А. Зябревой, статьи российских, украинских, польских и японских достоевсковедов. В рубрике «Ф. М. Достоевский и Крым» были помещены ценнейшие разыскания Н. Н. Богданова «Судьба рода Достоевских: новые материалы к биографии писателя» [Богданов, 2012] и Г. А. Зябревой «Историософия Ф. М. Достоевского: крымский след» [Зябрева, 2012].
Необходимо отметить, что в широкий круг научных интересов Г. А. Зя-бревой15 входит в том числе вопрос о пребывании на полуострове родственников писателя. В частности, в 2010 г. в журнале «Крымский архив» была опубликована ее статья «Потомки Ф. М. Достоевского в Крыму (Екатерина Цугаловская)» (в соавторстве с магистрантом А. С. Бессараб) [Бессараб, Зябрева]. Концепция работы — систематизация разрозненного материала о симферопольском периоде жизни сестер Цугаловских и введение в научный оборот воспоминаний Гурия Григорьевича Дагаева (1929), «детство которого прошло в том же доме»16 [Бессараб, Зябрева: 92], где они жили. Рассказ соседа не изобилует принципиально новыми биографическими сведениями, хотя некоторые бытовые и характерологические штрихи, особенно запомнившиеся Дагаеву, могут быть учтены при систематизации информации о невестке Ф. М. Достоевского. Например, «Гурий Григорьевич вспоминает, как иногда Екатерина Петровна отправляла его с записками на улицу Зои Жильцовой, в немецкую столовую, и оттуда сёстрам передавали обеды, которыми они зачастую делились с соседями». В памяти Дагаева запечатлелись образы Цугаловских: «…Анна Петровна, статная и строгая, воспринималась окружающими как высокомерная аристократка, Екатерина же, напротив, казалась женщиной простой, мягкой <…>, сёстры держали двух собачек — маленьких белых шпицев, ласковых и игривых» [Бессараб, Зябрева: 92].
Суждение Гурия Григорьевича об аристократичности одной из соседок созвучно зафиксированному Н. Н. Богдановым в 2002 г. воспоминанию другой жительницы абрикосовского дома — «семидесятишестилетней Натальи Архиповны Филиной (в девичестве — Онищенко), отчетливо помнившей двух старомодных дамочек — "Кити" и "Нити", поражавших окружающих тем, что они — единственные во всем доме — выходили на улицу с зонтиком не от дождя, а от солнца» [Богданов, 2012: 45]. К сожалению, пополнить копилку изустных воспоминаний о симферопольской жизни Достоевских-Цугаловских практически невозможно — все шире раскрывается временн а́ я бездна между их «вчера» и нашим «сегодня».
Однако обращения к архивным «следам» живших в Симферополе потомков Ф. М. Достоевского и роли крымских мотивов в наследии классика продолжаются и ныне. Необходимо заметить, что новейшие (на данный момент) из них17
были созданы сотрудниками Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского как результат участия в работе школы научной журналистики и редактирования «Школа Достоевского», инициированной В. Н. Захаровым и И. С. Андриановой.
В продолжение начатой Ю. А. Романовым систематизации крымских исследований по творчеству Ф. М. Достоевского рационально указать, что с 2018 г. преподаватели КФУ им. В. И. Вернадского участвовали в достоевсковедческих проектах РФФИ. Доценты С. В. Капустина и М. А. Шалина были включены в авторский состав монографии «Достоевский в средней и высшей школе: проблемы и новые подходы», изданной под научной редакцией Е. А. Федоровой к 200-летию писателя [Достоевский в средней и высшей школе…]. В 2024 г. была опубликована монография «Методология аксиологического подхода к изучению русской словесности А. А. Ухтомского и Д. И. Чижевского», в которой Е. А. Федорова и С. В. Капустина представили программу духовно-нравственного воспитания в высшей школе с учетом разработок по творчеству Ф. М. Достоевского [Методология аксиологического подхода…].
Также на современном этапе в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского осуществляется научно-исследовательская работа, связанная с анализом индивидуально-авторских концептов Ф. М. Достоевского (см.: [Зябрева, 2018b], [Капустина, 2021, 2022a]) и представленных в его произведениях локальных текстов (см.: [Курьянова], [Капустина, 2022b]), изучением поэтики его художественной прозы (см.: [Шалина, 2021a], [Норец], [Зябрева, 2024]), выявлением творческих «созвучий и притяжений» писателя с предшественниками, современниками и последователями (см.: [Икитян], [Борисова, 2022], [Шалина, 2024]), описанием молодежной интернет-рецепции его творчества (см.: [Капустина, 2024]) и мн. др.
Выделение крымского достоевсковедения, на первый взгляд, парадоксально, ведь, как отмечалось ранее, классик никогда не был на полуострове, однако насыщенная значимыми тематическими событиями история этого локального научного направления доказывает обратное. С 20-х гг. ХХ столетия в стенах крымского университета проводились исследования, посвященные архивным дополнениям к биографии писателя и его окружения, интерпретации его наследия, поиску сведений о «симферопольской ветви» его родословия. Созданные в «доцифровой» период и опубликованные в местных изданиях статьи и монографии крымских ученых в настоящей работе были «реаттестованы» широкому сообществу специалистов, что позволило, во-первых, восполнить некоторые библиографические упущения, во-вторых, объективнее представить весомый вклад представителей старейшего вуза полуострова в науку о Ф. М. Достоевском. В целостно-историческом контексте были обозначены приоритетные тематические направления разных достоевсковедческих поколений крымского университета; скорректированы сведения о взаимодействии его сотрудников с потомками писателя; обозначены имена тех подвижников крымской науки, которые в разных политических условиях оставались верны слову и имени Достоевского.