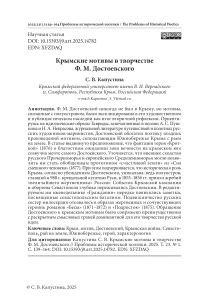Крымские мотивы в творчестве Ф. М. Достоевского
Автор: Капустина С.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
Ф. М. Достоевский никогда не был в Крыму, но мотивы, связанные с полуостровом, были эксплицированы в его художественном и публицистическом наследии как итог вторичной рефлексии. Ориентируясь на идиллические образы Тавриды, запечатленные в поэзии А. С. Пушкина и Н. А. Некрасова, журнальной литературе путешествий и полотнах русских художников-маринистов, Достоевский обогатил поэтику поздних произведений мотивом, сополагающим Южнобережье Крыма с раем на земле. В статье выдвинуто предположение, что фантазия героя «Кроткой» (1876) о благостном ожидании зова вечности на крымском юге созвучна мечте самого Достоевского. Уточняется, что внешнее сходство русского Причерноморья и европейского Средиземноморья могло позволить им стать обобщенным прототипом «счастливой земли» из «Сна смешного человека» (1877). При этом подчеркивается, что историческая роль Крыма, согласно убеждениям Достоевского, уникальна: ведь полуостров, ставший в 988 г. крещальной купелью Руси, в 1853-1856 гг. принял жребий «величайшего жертвенника» России. События Крымской кампании и обороны Севастополя глубоко переживались Достоевским. В редактируемом им еженедельнике «Гражданин» нередко появлялись заметки, посвященные севастопольским баталиям. Подвижничество русских сестер милосердия отозвалось в образах жертвенных и сочувствующих героинь романов «Бесы» (1871-1872) и «Подросток» (1875). Обращение Достоевского к крымским мотивам было сопряжено преимущественно с раскрытием смысловых граней доминантной для его творчества русской идеи.
Крым, мотив, достоевский, крымская война, севастополь, рай на земле, южнобережье, герой, характерология
Короткий адрес: https://sciup.org/147247804
IDR: 147247804 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.14782
Текст научной статьи Крымские мотивы в творчестве Ф. М. Достоевского
К рымскими мотивами традиционно обогащалась сюжетная канва тех произведений, авторы которых хотя бы единожды осуществили таврический вояж. Известные писатели и поэты разных эпох (по меткому выражению А. П. Ма-щенко, «от Пушкина до Прилепина» [Мащенко]), используя палитру собственных впечатлений от пребывания в Крыму1, художественно дополняли устойчивые представления о нем как о рае на земле и/или южном форпосте России. Мастерски задействовать крымские мотивы в характерологии литературных героев, а также эксплицировать новые смысловые преломления этих единиц в публицистике удалось и Ф. М. Достоевскому. Однако импульсом к выведению указанных сюжетных формул для него послужила не поездка на полуостров, которая так и осталась несбывшейся мечтой писателя, а феноменальная чуткость к «чужому слову» о Крыме.
Бесспорно, называть «чужим» для Достоевского пушкинское слово можно лишь в контексте обозначения вторичной рефлексии, поскольку — глобально — оно было для создателя «Бедных людей» и «Братьев Карамазовых» родным, национальным, пророческим. Именно Пушкин, воочию увидевший «земли полуденной волшебные края»2 с борта корвета «Або», стал «литературным первооткрывателем» Тавриды не только для Достоевского3, но и для большинства ценителей русской поэзии. Л. А. Орехова подтверждает этот тезис на примере поэмы «Бахчисарайский фонтан», которая «в начале XIX века обеспечила своеобразное романтическое представление о Крыме» [Орехова, 2015: 258]. Ее точка зрения созвучна выводам Д. К. Первых о том, что «с выходом книги И. М. Муравьева-Апостола "Путешествие по Тавриде в 1820 годе" и поэмы А. С. Пушкина "Бахчисарайский фонтан" крымская тема стремительно актуализируется для читателей столичных журналов» [Первых: 168]. Исследовательница утверждает, что перечисленные произведения не только привлекли внимание к «новому для российской публики экзотическому локусу» [Первых: 171], но и задали «крымский вектор» в журнальной литературе путешествий. Указанное направление, популяризированное «Северным архивом», «Вестником Европы», «Сыном Отечества», «Отечественными Записками», было поддержано и журналом «Гражданин». Примечательно, что активное развитие крымской тематики в этом еженедельнике4
началось с первых выпусков, изданных под редакцией Достоевского. Так, во втором номере «Гражданина» от 8 января 1873 г. был размещен отзыв о книге Евгения Маркова «Очерки Крыма. Картины крымской жизни, природы и истории», которая, по слову безымянного рецензента, являлась «дословной перепечаткой статей, печатавшихся въ "Отечественныхъ Запискахъ" въ послѣднiе годы и въ "Вѣстникѣ Европы" за настоящiй годъ (подъ заглавiемъ "Пещерные города Крыма")» ( Гр . 1873. № 2. 8 Января. С. 54).
Принадлежала ли эта заметка перу Достоевского? Степень вероятности положительного ответа на поставленный вопрос достаточно высока5. Однако даже при возможном отрицании необходимо учитывать то, что редактор-издатель Достоевский вряд ли допустил бы к печати библиографический обзор, предварительно не ознакомившись с содержанием рассматриваемой в нем книги. Косвенным аргументом в пользу прочтения Достоевским «Очерков Крыма…» Е. Л. Маркова, думается, можно считать, во-первых, их «географическое созвучие» с судьбами значимых для писателя людей. Полагаем, Достоевский не лишил бы себя возможности подробнее узнать о «Та-тарскомъ Невскомъ проспектѣ»6 и воспетых А. С. Пушкиным восточных реалиях Бахчисарая, о живописном Кастеле-При-морском, где Н. П. Суслова-Голубева хранила его исполненное признаний послание (см.: [Орехова, 2004]), о «живомъ родни-кѣ неподдѣльной красоты, неподдѣльной поэзiи»7 — Южнобе- режье, пейзажами которого в начале 1860 г. любовался его брат
Андрей Михайлович Достоевский (см.: [Достоевский А. М.: 239])…8 Во-вторых, согласно авторскому замыслу, «Очерки…» были нацелены помочь «человѣку, не знающему Крыма», нарисовать «сколько нибудь выразительно тѣ особенности этой природы и жизни, которыхъ мы, русскiе, не найдемъ нигдѣ больше въ своемъ отечествѣ»,9 — и эта помощь могла стать важным «художническим дополнением» к мечте Достоевского о благостном ожидании зова вечности на черноморском побережье. Сокровенное стремление к обретению земного рая автор «Кроткой» (1876) воплотил в главном герое указанной повести, жаждавшем «окончить жизнь где-нибудь в Крыму, на Южном берегу, в горах и виноградниках, в своем имении < …> с идеалом в душе, с любимой у сердца женщиной, с семьей, если Бог пошлет, и — помогая окрестным поселянам» [Достоевский; т. 24: 16]. Стоит заметить, что «чудная и богатая природа южнаго берега Крыма» особенно выделяется и рецензентом «Очерков…». С указания на растущую популярность «путешествiй по южному берегу Крыма» ( Гр . 1873. № 2. 8 Января. С. 54) он начинает свой отзыв. Перечисляя основные содержательные блоки «Очерков…», он ставит на первую позицию повествование о Южнобережье:
«Въ этой книгѣ найдется и прекрасная картина природы южнаго берега Крыма, и интереснѣйшiе историческіе разсказы, и, наконецъ, очень любопытныя этнографическiя и бытовыя описанiя этого совсѣмъ неизвѣстнаго нашей публикѣ, отдаленнаго отъ насъ края» ( Гр . 1873. № 2. 8 Января. С. 54).
Любопытным представляется и то, что недостатки, отмеченные в журнальном отзыве на книгу Е. Л. Маркова, будто бы нашли отражение в романе «Подросток» (1875). Анонимный создатель библиографического обзора (предположительно — Ф. М. Достоевский) сокрушался:
«Жаль только, что авторъ, печатая "Очерки" отдѣльным изданiемъ, не выбросилъ, или по крайней мѣрѣ не сократилъ помѣщеннаго въ началѣ книги довольно длиннаго и скучноватаго описанiя ѣзды на почтовыхъ по среднимъ и южнымъ нашимъ дорогамъ, съ пресловутыми перекладными и ямщиками…» ( Гр . 1873. № 2. 8 Января. С. 54).
Замечание весьма объективно: Е. Л. Марков действительно очень детально описывает дорогу в Крым, двигаясь по которой на почтовых, «приходится столько же плавать и страдать, сколько путешествовать»10. Полагаем, что композиция «Очерков…» адаптирует к крымскому локусу мотив преодоления: райские картины благодатной земли открываются только после путевых испытаний. Аналогичный мотив будто бы представлен и в четверостишии из домашнего альбома, купленного Аркадием Долгоруким на аукционе:
«…Я в путь далекий отправляюсь, С Москвой надолго расстаюсь, Надолго с милыми прощаюсь
И в Крым на почтовых несусь» [Достоевский; т. 13: 38].
Герой романа «Подросток» воспринимает эти пронизанные наивным путевым романтизмом строки снисходительно — как «стишки», записанные в «самой дрянной вещи в мире — альбомчике», похожем на те, которые «заводились в старину у только что вышедших из института девиц» [Достоевский; т. 13: 38]. Однако именно они «уцелели-таки в <…> памяти» Аркадия [Достоевский; т. 13: 38] и, возможно, стали своеобразным символическим эпиграфом к «далекому пути» его само-выделки . «Проба» на аукционе воспринималась Подростком как «первое бревно того корабля, на котором Колумб поехал открывать Америку» [Достоевский; т. 13: 36], и, следовательно, была исходной точкой предстоящих испытаний. Москву в его жизни сменил Петербург, поэтому со столицей, основанной однофамильц ем, юноша действительно расстался надолго.
Обратимость и временность его желания «порвать со всеми» [Достоевский; т. 13: 36], а также возвращение к «малой церкви» после добровольной попытки отречения предугадываются в третьей строке четверостишия ( надолго , но не навсегда!). На положительный же исход всего непростого и «далекого пути» Подростка будто бы указывает финальная поэтическая строка. Езда на почтовых в Крым, соотносимая с мотивом преодоления испытаний перед обретением рая на земле, словно предвещает преображение Аркадия, его прозрение к благообразию после кружения в вихре беспорядка11.
Можно предположить, что авторская ассоциация Крыма с русским эдемом передается в романе «Подросток» и через воспоминание Аркадия о художественном оформлении купленного альбома. В одно предложение с текстом «стишков» герой, будто бы между прочим, включает такую характеристику:
«Тушью и красками нарисованы были храмы на горе, амуры, пруд с плавающими лебедями…» [Достоевский; т. 13: 38].
Для него подобные иллюстрации — маркер наивности и романтизма, присущих составителю альбома, но для Достоевского рисунки в рукописи — одна из граней целостной смысло-передачи, символическое пояснение к тексту. Именно поэтому далеко не случайным представляется отмеченное в романе альбомное «соседство» поэтических строк о езде на почтовых в Крым и любительского рисунка, на котором характерный для полуострова горный пейзаж сочетается с изображением храмов — врат рая на земле.
Следует заметить, что такая символическая картина могла возникнуть в воображении православного романиста в том числе под влиянием «Очерков…» Е. Л. Маркова. Именно в этой книге даны подробные словесные зарисовки12 древних христианских святынь полуострова, к расположению которых применима упрощенная Подростком интерпретационная схема «храмы на горе»13. Хотя, безусловно, представление Достоевского о благодатном полуострове могло формироваться не только по «чужому слову» о нем, но и по крымским сюжетам, воплощенным на полотнах известных маринистов.
В статье «По поводу выставки» «Дневника Писателя» 1873 г. Достоевский, впечатленный картинами русских художников, впоследствии представленными на Венской всемирной выставке, утверждал:
«Я, конечно, не говорю, что в Европе не поймут наших, например, пейзажистов: виды Крыма, Кавказа, даже наших степей будут, конечно, и там любопытны. Но зато наш русский, по преимуществу национальный, пейзаж, то есть северной и средней полосы нашей Европейской России, я думаю, тоже не произведет в Вене большого эффекта» [Достоевский; т. 21: 70].
Цитируемое предположение нашло противоречивый отклик в трудах современных исследователей. Например, М. В. Михновец, анализируя «кавказский текст» в творчестве Достоевского, приходит к выводу, что для писателя «Крым, Кавказ, степи — безусловно "наши", т. е. административно закреплены за территориями Российского государства. Но, исходя из контекста всего высказывания, видно, что в картине мира писателя эти регионы не являются русскими, "нашими"» [Михновец: 230]. Полагаем, такое инерционно-категоричное «отсечение» Тавриды от России на ментальной карте Достоевского абсолютно безосновательно. «Увиденное» исследовательницей писательское восприятие Крыма — крещаль- ной купели Руси и русского поля брани с европейск ими
«отступниками Креста» — как «не русского, не "нашего"», только лишь формально закрепленного за Россией, отсутствует как в цитируемых строках «Дневника…», так и в наследии Достоевского в целом. В приведенном же фрагменте из статьи «По поводу выставки» констатируется, что виды русского Крыма, которые, действительно, отличаются от стереотипных картин средней полосы России, могут заинтересовать европейцев, скорее всего потому, что в них есть сходство с морскими пейзажами, например, Греции или Италии.
Справедливость этой трактовки доказывается обращением к тем «видам Крыма», которыми в 1873 г. в Петербурге любовался Достоевский, а после в Вене — европейский зритель. Так, согласно Указателю Русского отдела Венской всемирной выставки 1873 г., в экспозиции «Современные произведения художества» были представлены работы двух известных крымских маринистов — И. К. Айвазовского и его ученика Л. Ф. Лагорио14. Из четырех полотен поименованных живописцев только на двух запечатлены виды Крыма: «Тихое море» И. К. Айвазовского и «Морской вид» Л. Ф. Лагорио. Две же другие картины старшего художника при поверхностном взгляде также можно ошибочно принять за воплощение крымских сюжетов, но на первой изображен разгул стихии близ неаполитанского побережья («Буря у Везувия»), а на второй — ночная нега Средиземноморья («Ночь у острова Капри»). Возможно, сходство морских пейзажей Крыма и Италии, подчеркнутое единством манеры письма И. К. Айвазовского, и побудило Достоевского к заключению о том, что виды русского Крыма, в отличие от пейзажей северной и средней полосы России, будут интересны и европейцу. Скорее всего, визуальная близость русского и европейского побережий помогла оформиться и собирательному образу рая, весьма любопытно представленному Достоевским в «Сне смешного человека»:
«Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг, или где-нибудь на прибрежье материка, прилегающего к этому архипелагу. <…> Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью…» [Достоевский; т. 25: 112].
На первый взгляд, в этом описании присутствует конкретика: обозначен Греческий архипелаг, воплощенный на значимой для Достоевского картине «Асис и Галатея» («Золотой век») Клода Лоррена15. В альтернативной же части характеристики представлена максимально пространная локация, ведь «прибрежьем материка, прилегающего к этому архипелагу», можно назвать не только Грецию, но и, например, взморье Балканского или Крымского полуостровов, понтийские берега расколотой Византии. Следовательно, создавая пейзаж «счастливой земли», Достоевский интермедиально ориентировался, прежде всего, на «Греческий архипелаг» Лоррена, хотя вполне допускал и иные «земные прототипы» рая, воплощенные, в том числе, на полотнах крымских маринистов. Причерноморская «натура», с которой последние писали свои пейзажи, как отмечалось ранее, отзывалась в мечте Достоевского (и его героя) о завершении земного пути на Южнобережье Крыма. Однако в сюжетах корифея крымской маринистики И. К. Айвазовского писатель находил технические и концептуальные несовершенства.
Вдохновленный мастерством светопередачи Лоррена, феодосийский певец моря, по мнению писателя, будто бы доводил ласкающую лучезарность «Золотого века» до слепящей солнечными потоками «золоченой картины» [Достоевский; т. 19: 163]. В статье «Выставка в Академии художеств за 1860–1861 год», опубликованной в журнале «Время», Дос-тоевский16 рассуждал о «занимательности <…> композиций» И. К. Айвазовс кого, заключающейся в «сказочном характере»
его полотен, в том, что художник употребляет «краски, во-первых, обыкновенные, а потом, вдобавок к ним, <пускает> там и сям эффекты — тоже с естественным источником, но преувеличенные до последней степени, до той точки, где начинается уже карикатура» [Достоевский; т. 19: 161–162]. В качестве примеров пейзажных гипербол И. К. Айвазовского Достоевский приводил три картины: «Буря под Евпаторией», «Овцы, загоняемые вьюгой в море» и «Партенит на южном берегу Крыма». И если преувеличение в изображении крымской природы на первом полотне писатель оправдывал неистовством стихии («В его буре есть упоение, есть та вечная красота, которая поражает зрителя в живой, настоящей буре» [Достоевский; т. 19: 163]), то в чрезмерной солярности двух других произведений И. К. Айвазовского Достоевский видел весомый недостаток:
«Идет большое стадо белых курчавых овец; на них светит солнце так ярко, что смотреть больно, как на всякий белый предмет, в упор освещенный солнцем»; «Бывает мгновение, когда вечернее солнце золотит предметы, на которые светит. Г-н Айвазовский берет это мгновение и пишет золоченую картину, как "Партенит на южном берегу Крыма": в ней корабль, стоящий на якоре под берегом, освещен солнцем так, что правый борт его весь из розового золота» [Достоевский; т. 19: 162, 163].
Критикой изобразительной манеры профессора-мариниста Достоевский будто подчеркивал несоответствие между искаженным художническими эффектами образом Крыма и собственным представлением об этом райском уголке России, природное совершенство которого следовало бы по-лор-реновски живописать, а не по-айвазовски дописывать.
Однако, даже при внешнем соответствии архетипичному образу парадиза и российского Причерноморья, и европейского Средиземноморья, у этих земель, по Достоевскому, были исторически и экзистенциально разные роли. Русскому полуострову было предуготовано противостоять натиску Европы, восставшей «за турка на Христа» [Достоевский; т. 2: 405], — и этим противостоянием духовно сплотить соотечественников, укрепить их веру и национальное самосознание. Важно, что мотив, связанный с восприятием Крыма (особенно — Юж-нобережья) как райской земли, наиболее явственно воплощался в текстах классика 1870-х гг., а мотив возрождения русской идеи, эксплицируемый через указание на верное служение Отечеству его южного форпоста (особенно — Севастополя), развивался в произведениях Достоевского с начала Крымской кампании (1853–1856).
В апреле 1854 г. семипалатинский солдат Ф. М. Достоевский, который, по словам В. Н. Захарова, уже «принял каторгу как очистительное страдание, сопричастное Голгофе и воскрешению Христа» [Захаров], написал стихотворение «На европейские события в 1854 году», ставшее первой частью его поэтической триады17. Следует непременно учитывать, что ее создатель уже «был заживо погребен в Мертвом Доме, узнал народ, проникся Образом и Словом Христа, принял Благую Весть, воскрес из мертвых, стал новым человеком…» [Захаров], поэтому и его произведения семипалатинского периода проникнуты пасхальным чувством. Достоевский, переживший свою «Сибир скую Пасху» [Захаров], в трех стихотворениях о событиях Крымской войны призывал к воскресению и европейских вероотступников, поправших Христа ради политических амбиций.
Л. И. Сараскина справедливо назвала «Сибирскую Пасху» Достоевского «Крымским циклом» [Сараскина: 133]. Правоте исследовательницы отнюдь не противоречит то, что ни в одной из частей триады Достоевского нет ни прямого упоминания Крыма, ни связанных с ним топонимов. Поэт воспевает духовную мощь и подвижничество России, хотя каждый вдумчиво читающий его строки понимает, что именно в Крыму совершился тот «кровавый посев», плод которого православная держава «пожала доблестным мечом», что она встречает мир, «утучнив кровию святою» прежде всего поля причерноморского полуострова, принявшего на себя основ ные удары евр опейского оружия [Достоевский; т. 2: 409].
Анализ «Крымского цикла» традиционно (см.: [Зябрева, 2012, 2017], [Сараскина] и др.) начинается с указания на стереотип, «будто целью написания этих стихотворений было стремление опального Достоевского заявить о своих "верноподданических чувствах" и благодаря этому вернуться в литературу» [Зябрева, 2012: 52], — а также последующего опровержения этого обвинения строками из (не предназначавшихся для публики) писем Ф. М. Достоевского А. Н. Майкову 1856 г. Однако главным доказательством искренности молодого литератора стало то, что свои сибирские впечатления о героическом Крыме и стоящем на страже России Севастополе он впоследствии облек в форму узнаваемых мотивов, историо-софски обогативших содержание как его публицистических текстов, так и романов «Великого пятикнижия».
В частности, упрек Достоевского, адресованный английским и французским «отступникам Креста» — «Тянуться ль вам в одно с богатырями!» [Достоевский; т. 2: 405, 403], — будто бы получил развернутый комментарий в его творчестве. Феномен «богатырство» последователь А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя понимал как исключительное свойство русского национального характера: называя свой народ «богатырем», Достоевский подчеркивал, что «верные сыны Святой Руси сильны тем, что носят Бога в сердце своем» [Капустина, 2014: 240]. Крымская кампания также продемонстрировала, что « богатырство — это не только явление исторического прошлого России, но и её спасение в настоящем, а также залог великого будущего» [Капустина, 2014: 239]. Отвечая на брошенный «гасителями божественного света» [Достоевский; т. 2: 405] «экзистенциальный вызов России» [Сараскина: 119], последователи «великого, целомудренного и смиренного христианского богатыря Ильи Муромца, подвижника за правду, освободителя бедных и слабых, смиренного и непревозносящегося, верного и сердцем чистого» [Достоевский; т. 25: 69], проявляли на крымском поле брани пращурами завещанную — истинно православную — силу.
Достоевский же, по его собственному признанию в письме генерал-адъютанту Э. И. Тотлебену от 24 марта 1856 г., «с самым бескорыстным и восторженным чувством следил <…> всё это последнее время за подвигом» своего адресата — современного ему богатыря, который в единстве с соотечественниками «в эпоху несчастья покрыл грозную оборону Севастополя вечной, неувядаемой славой» [Достоевский; т. 28, кн. 1: 226]. На страницах редактируемого им еженедельника «Гражданин» Достоевский часто возвращался к событиям обороны Севастополя. В № 17 от 23 апреля 1873 г. он поместил перепечатку статьи из газеты «Русский Инвалид» под названием «Отношения императора Николая Павловича к Севастополю». В преамбуле этого текста есть строки, под которыми, думается, подписался бы каждый патриот России:
«На ряду съ куликовской битвой, спасенiемъ Москвы въ 1612 году, Полтавой, Бородинымъ, она (оборона Севастополя. — С. К .) будетъ изъ поколѣнiя въ поколѣнiе воспитывать и укрѣп-лять духъ русскаго народа» ( Гр . 1873. № 17. 23 Апрѣля. С. 513).
В повествовательном же ее фокусе, как явствует из заголовка, были исполненные отеческой заботы, упования на Всевышнего и боления за новых богатырей русского народа послания государя к главнокомандующим Южной и Крымской армиями князю Меншикову и князю Горчакову. Переписку прервала смерть императора Николая Павловича, последовавшая после потрясения от «неудачи евпаторiйской рекогносцировки, которую Онъ предвидѣлъ». Однако «вдохновенный Имъ, Севастополь еще болѣе полугода отбивался отъ ожесточеннаго напора могущественныхъ враговъ, и среди неумолчнаго грома, обагряемый потоками крови, продолжаль стоять въ дыму и пламени, какъ величайшiй жертвенникъ, по истинѣ достойный и Царя, и Россiи!» ( Гр . 1873. № 17. 23 Апрѣля. С. 518).
«Величайший жертвенник» Крымской войны стал не только символом верной воинской службы государю и Отечеству, но и примером православного служения братьям во Христе. В «Гражданине», редактируемом Достоевским, не единожды помещались материалы о подвижничестве русских женщин в Севастополе. Впервые упоминание о сестрах милосердия, по христианскому чувству принявших на себя заботу о больных и раненых героях Крымской кампании, появилось в третьем номере издания за 1873 г.
Издатель журнала князь В. П. Мещерский (см.: [Викторович: 235]), опубликовавшийся под псевдонимом Русскiй , сообщал о смерти великой княгини Елены Павловны, прожившей в России полвека, наполненных «великаго смысла служе-нiемъ своему новому отечеству». Самым «высоко-христiан-скимъ и глубоко-патріотическимъ» начинанием почившей благотворительницы публицист называл «учрежденiе сес-теръ милосердiя во время Крымской войны». Великая княгиня готовила воспитанниц к самоотверженному служению, «какъ мать и какъ сестра, и послѣ всѣхъ этихъ чудныхъ минутъ и заботъ возъимѣла утѣшенiе увидѣть какъ на бастiонахъ Севастополя и у одра севастопольцевъ-героевъ показали себя эти ангелы любви, посланные Ею къ солдатамъ и морякамъ!» ( Гр . 1873. № 3. 15 Января. С. 55, 56).
Ко дню памяти великой княгини Елены Павловны в 1874 г. на страницах «Гражданина» была размещена статья о ее горячем участии в судьбе России. Отмечалось, что благое дело, начатое великой княгиней, продолжалось и после Крымской войны:
«Крестовоздвиженскiя сестры работаютъ на такомъ полѣ, которое всегда обильно, никогда не выпахивается. Это поле бо-лѣзни и смерти, поле нужды, горя и бѣдствiя, наконецъ — когда Богу угодно будетъ — поле военной брани» ( Гр . 1874. № 2. 14 Января. С. 40).
В этом же выпуске публиковалась повесть Н. И. Соловьева «Севастопольские подвижницы». Картинами из жизни «бѣ-лыхъ капюшоновъ, мелькавшихъ между солдатскими шинелями», бесстрашно идущих «прямо въ огонь», а после без сна и отдыха спасающих раненых воинов в нещадно бомбардируемых врагом перевязочных пунктах, ее автор запечатлел колоссальную «силу женскаго сочувствiя и самопожертвова-нiя» ( Гр . 1874. № 2. 14 Января. С. 52, 50, 55).
Достоевский, впечатленный духовной крепостью «со-участницъ севастопольской кампанiи» (Гр. 1874. № 2. 14 Января. С. 52), как литератор почтил «живымъ словомъ память чествуемыхъ всею Россiей событiй»18. Он раскрыл суть русского характера, в том числе через введение в поэтику романов «Великого пятикнижия» крымских (севастопольских) мотивов.
Например, в седьмой главе третьей части «Бесов», посвященной последнему странствованию Степана Трофимовича, изображена его спутница в Спасов — книгоноша Софья Матвеевна Улитина, — биография которой тесно связана с севастопольскими событиями. Примечательно, что, отвечая на вопрос Варвары Петровны «сама ты что за птица?», Софья Матвеевна «рассказала ей кое-как <…> о себе, начиная с Севастополя» [Достоевский; т. 10: 502]. Такое начало самоаттестации Улити-ной выделяет те ключевые события, которые сформировали ее православное восприятие мира и человека. Супруг книгоноши — «подпоручик за выслугу из фельдфебелей, был убит в Севастополе» [Достоевский; т. 10: 488]. Вдова героя «после мужа, оставшись всего восемнадцати лет, находилась некоторое время в Севастополе «в сестрах»» [Достоевский; т. 10: 488]. Примкнув, по слову публициста под псевдонимом Русскiй (В. П. Мещерский), к «ангеламъ любви» ( Гр . 1873. № 3. 15 Января. С. 56), заботящимся о севастопольских страждущих, она осталась верна выбранному служению и после: неслучайно умирающий Степан Трофимович почувствовал в ней « C’était plus qu’un ange », т. е. больше, чем ангела [Достоевский; т. 10: 500].
Среди женских воплощений Достоевским других «ангелов любви», заботящихся об исцелении ближних не столько от физических, сколько от духовных недугов, нужно выделить и Софью Андреевну Долгорукую, судьба которой также могла бы быть связанной с Севастополем. Подросток назовет свою мать «ангелом небесным» [Достоевский; т. 13: 433], Версилов скажет, что его гражданская жена — «последний ангел» [Достоевский; т. 13: 409], у которого он всегда находит (и будет находить) прощение и утешение. Она станет неминуемой [Достоевский; т. 13: 409] для того, кого жертвенно, самоотреченно и сострадательно любит. О. А. Богданова делает по этому поводу любопытное замечание: «…именно "Соня" пожертвовала своими "весельем" и жизненным "порядком" из сострадания к лишенному всех этих благ человеку» [Богданова: 359]. Думается, героиня, безгранично заботясь о Версилове, отправилась бы за ним и в огонь севастопольских баталий, однако он «в войну с Европой поступил опять в военную службу, но в Крым не попал и всё время в деле не был» [Достоевский; т. 13: 65]. Г. А. Зябрева, вспоминая об этом эпизоде биографии героя, утверждает, что он был «не допущен автором к боевым действиям» [Зябрева, 2018: 11]. Возможно, такой формулировкой исследовательница подчеркнула позицию Достоевского, согласно которой, «легкомысленным старцам» и русским европейцам «без всякой религии» не место среди тех, для кого севастопольский «подвиг свят» [Достоевский; т. 2: 405], кто за Христа с радостью готов положить жизнь на «величайший жертвенник» России (Гр. 1873. № 17. 23 Апрѣля. С. 518).
Крымские мотивы, связанные с севастопольскими событиями, были использованы Достоевским и в контексте повествования о предназначении России («Дневник Писателя», 1876–1877), и как «мерило героизма» в характере конкретного персонажа (сожаление провокатора Игната Лебядкина («Бесы») о непричастности к народному подвигу), и как «сюжетные импульсы» (аналогия Порфирия Петровича («Преступление и Наказание») между выжидательной тактикой европейцев в Альминском сражении и методом следователя при поимке преступника)20. В основном, крымские мотивы, отсылающие к героическому прошлому южного форпоста России, являются «смысловыми атомами» магистральной для творчества Достоевского русской идеи, сквозь призму которой автор выстраивает характерологию персонажей. Однако в единичных случаях этот принцип нарушается — и упоминание героями боев в Севастополе сополагается только с развитием конкретных сюжетных линий.
Таким образом, мотивная организация художественных и публицистических произведений Достоевского включает «крымские конструкты». Условно можно выделить два вектора их смыслового развертывания: 1) Крым (преимущественно — Южнобережье) — щедро одаренная природой земля, романтические пейзажи которой близки архетипическим картинам рая; 2) Крым (преимущественно — Севастополь) — «величайший жертвенник» России, принявший на себя жестокий удар отринувших Христа европейцев. При внешнем сходстве с иными приморскими берегами, визуально напоминающими парадиз, Крым всегда выделялся Достоевским как символ духовного единства и патриотического воодушевления России; как земля, освященная подвигами севастопольских богатырей, которые не на жизнь, а на смерть стояли за Христа и Отечество.