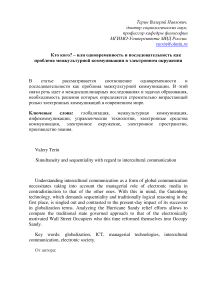Кто кого? - или одновременность и последовательность как проблема межкультурной коммуникации в электронном окружении
Автор: Терин Валерий Павлович
Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej
Статья в выпуске: 5, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается соотношение одновременности и последовательности как проблема межкультурной коммуникации. В этой связи речь идет о междисциплинарных исследованиях и задачах образования, необходимость решения которых определяется стремительно возрастающей ролью электронных коммуникаций в современном мире.
Глобализация, межкультурная коммуникация, инфокоммуникации, управленческие технологии, электронные средства коммуникации, электронное окружение, электронное пространство, производство знания
Короткий адрес: https://sciup.org/14752404
IDR: 14752404
Текст научной статьи Кто кого? - или одновременность и последовательность как проблема межкультурной коммуникации в электронном окружении
От автора:
Случай довольно редкий. Даже, можно сказать, удивительный. Так что лучше, наверное, всё по порядку.
Я выступал на одном обсуждении, а потом его участников, в том числе, конечно, и меня, попросили, как можно быстрее сдать тексты своих выступлений, чтобы их можно было опубликовать. И потом еще поторапливали.
И в ответ я, конечно, спешил, чтобы не опоздать, к тому же текст мой оказался достаточно трудным, и за короткое время его пришлось еще несколько раз править.
Но все обошлось, успел. А несколько позже узнал, что все тексты, как и предполагалось, были опубликованы. Все, кроме моего.
Как потом выяснилось, он пропал, да еще при этом таким странным образом, что все, кто отвечал за публикацию, про него вдруг напрочь забыли. Конечно, я понял, что мой текст просто не пропустили - такая вот реакция самозащиты -, но все же стал интересоваться его судьбой. Однако в ответ все хранили молчание. И так, мол, должно быть понятно, так чего, мол, спрашиваешь!
Конечно, я знал о практике не давать неугодным текстам возможность увидеть свет. Но вопрос-то, чем же я таким перечеркнул работы дозволенных авторов, тем не менее, остался.
Предлагаю в этой связи вашему вниманию ту самую статью, поскольку писалась она совсем не для того, чтобы кого-то перечеркнуть, а исключительно потому, что речь в ней идет о важных вещах, изучением которых я давно занимаюсь.
Б у н ш а. Товарищ Радаманов, я вам хотел свои документы сдать.
Р а д а м а н о в. Какие документы?
Б у н ш а. Для прописки, а то ведь мы на балу веселимся непрописанные. Считаю долгом предупредить.
Р а д а м а н о в. Простите, дорогой, не понимаю… Разрешите потом … (Уходит.)
Б у н ш а. Совершенно расхлябанный аппарат. Ни у кого толку не добьешься.
М.А. Булгаков. Блаженство.
Сон инженера Рейна в четырех действиях .
Человечество живет, главным образом, через соотношение двух вещей, которое в электронном окружении строится по типу интерфейса: это, во-первых-- общественное развитие само по себе с его общезначимыми противоречиями, требующими своего разрешения (отметим в этой связи самую краткую формулу глобализации «Подставишься - потребят!»), а во-вторых - разнообразие глобально значимых культур с предполагаемой ими борьбой за преобладание.
В качестве «вездесущего» посредника уже давно существует интернет, эта окружившая нашу планету среда электронной коммуникации, управленческое значение которой стремительно возрастает .
В интернете, конечно, тоже не следует упускать из виду роль социальных противоречий (выступающих не только в виде Википедии, где много вранья по праву сильного). Если исходить из современного противостояния людей, то правильнее сказать, что, главным образом, не они пользуются интернетом, а он пользуется ими. И если на основе этого противостояния продолжать жить достаточно долго, то интернет или его последующая модификация, получив в свое распоряжение искусственный интеллект, сможет, наверное, избавиться от породившего его существа, возможности соображения которого по сравнению с его собственными могут оказаться просто ничтожными.
Мы каждый день должны решать проблему выбора: как нам следует жить дальше, и что для этого нам надо делать, имея в виду всю планету Земля, эту небольшую площадку для жизни всего человечества. Главное здесь, конечно -- это обеспечение преобладания достаточно разумного действия.
Если исходить из окружающего нас электронного пространства, то внимание не могут не привлекать два права, поскольку они выступают как его технологические императивы:
право на информацию, в результате использования которого граждане знают всё, что им необходимо знать для своей полноценной жизни,
-право на коммуникацию, позволяющее гражданам ставить на повседневный оперативный контроль деятельность государственной власти как средства обеспечения наилучшего пути общественного развития.
Решение этих проблем требует учета культурного разнообразия участников электронного общения.
Нам хорошо. У нас – межкультурная коммуникация, то есть только одно понятие, которое предполагает всё, что она может означать. См., например, в Википедии: «Межкультурная коммуникация — связь и общение между представителями различных культур, что предполагает как личные контакты между людьми, так и опосредованные формы коммуникации (такие как письменность и массовая коммуникация)».
С английским языком сложнее. В нем таких понятий целых два, а значит, нужно выбирать, с какого начать, то есть здесь можно и ошибиться.
Одно английское понятие - intercultural communication, то есть межкультурная коммуникация, другое - cross-cultural communication (коммуникация культур) или, опять же, межкультурная коммуникация, хотя некоторые у нас почему-то стали предпочитать кальку с английского «кросс-культурная коммуникация» . См. в этой связи статью
«Межкультурная коммуникация» в Википедии: «Иногда межкультурную коммуникацию обозначают как «кросс-культурную» (от английского «cross-cultural»). Это указывает на недостаточную переводческую культуру тех, кто этим обозначением пользуется, что уже само по себе свидетельствует о сложности проблем межкультурной коммуникации».
В толковом словаре английского языка можно узнать, что cross-cultural communication и intercultural communication обозначают в общем-то одно и то же.
Когда же в английском языке эти два понятия используются не как синонимы, то понятием intercultural communication обозначают исследования глобальной коммуникации, особенно когда нужно понять проблемы коммуникации в деятельности организаций, состоящих из лиц, различающихся по социальным, этническим, образовательным и религиозным признакам, а cross-cultural communication предполагает, что больше внимания уделяется причинам, побуждающим людей преодолевать свои культурные различия.
Уже столь большое разнообразие вопросов сделало необходимыми междисциплинарные исследования. Они, тем не менее, часто оказываются не в состоянии преодолеть застарелую разобщенность исследователей, сказавшуюся на существовании в английском языке тех же двух понятий в то время, когда речь идет о проблемах, решение которых требует в этом плане единства.
Для чего давно уже выбрано направление, получившее название экологии средств коммуникации (media ecology) и объединяющее по большей части преподавателей университетов США, Канады и не только. В его рамках работают представители различных научных дисциплин, находя общий язык и добиваясь понятийно сопоставимых результатов.
Экология средств коммуникации представляет собой понимание человеческой деятельности по отношению к ее продуктам, рассматриваемым в качестве средств коммуникации, которая, если уж совсем по-русски, означает здесь «связь и общение».
Напомним, что когда говорят о культуре, то имеют в виду, что она представляет собой совокупность форм человеческой деятельности, без которых не может воспроизводиться, а значит, существовать. Культура предстает как набор присущих ей «кодов», предписывающих человеку то или иное поведение, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие. Поэтому у исследователя не может не возникнуть вопрос о том, с чего ему следует начать, чтобы затем на этой основе понимать дальнейшее.
Отвечая на этот вопрос, И. Кант противопоставлял культуру воспитания, как культуру в собственном смысле этого слова, культуре умения. «Внешний, «технический» тип культуры он называет цивилизацией, - отмечает А.В. Гулыга. - Кант видит бурное развитие цивилизации и тревожно отмечает ее отрыв от культуры. Последняя тоже идёт вперед, но гораздо медленнее. Эта диспропорция является причиной многих бед человечества.»1
В настоящее время в межкультурном взаимодействии ведущее место бесспорно принадлежит электронным коммуникациям. Тем не менее до сих пор значительную роль в нем играют коммуникации доэлектронные, что нередко выражается в том, что исследователи, признавая первичную роль электронной коммуникации, воспринимают ее по аналогии с доэлектронной.
Обратим внимание в этой связи на две формы коммуникации, одну из которых предполагает печатный станок Гутенберга со всеми своими модификациями, а другую – электричество с его способностью мгновенно связывать между собой любое количество людей, ведь электронные средства коммуникации и представляют собой всё более полную реализацию этой способности.
Нельзя, конечно, сводить понимание человеческой деятельности к одному фактору, каким бы важным он ни представлялся. Имея в виду соотношение двух упомянутых форм, посмотрим , что означает выбор в качестве ведущей той или иной из них.
Воздействие технологии Гутенберга предполагает следующее:
• Поскольку книги, изготовляемые типографским способом, могли тиражироваться в любом необходимом количестве экземпляров, их начинали читать везде, где на них появлялся спрос (к концу жизни Иоганна Гутенберга [1397-1468] его станки работали уже во всех крупных городах Западной Европы), и среди читателей были представители родственных диалектов, которые не могли не обнаруживать, во-первых, – что это их общий язык, во-вторых, – что они являются носителями этого общего языка как своего национального, и в-третьих, – что они выступают, тем самым, как представители одной и той же формирующейся нации, которая для своего благополучия требует образования единого национального государства. Иначе говоря, печатный станок Гутенберга должен был стать мощным катализатором формирования наций и подготовки национальных революций, победа которых должна была увенчаться формированием национального государства.
-
• Книга, изготовленная типографским способом –
поскольку она действительно необходима – предполагала, что ее нужно прочесть от начала и до конца, линейно и последовательно. А тем самым последовательность как технология восприятия и мышления становилась привычной настолько, что ее легко стали принимать за само собой разумеющуюся норму правильного восприятия и правильного мышления.
-
• Такую книгу далее читатель должен был читать и
- понимать, как правило, сам, прилагая самостоятельные усилия по отношению к самому себе, формируя, тем самым, мышление и делая его вещью само собой разумеющейся. Неудивительно поэтому, что с распространением технологии Гутенберга
формируется индивидуализм, как ведущая норма отношенийi, предполагающих изменения человека и качества его жизни, требующих от него самостоятельного отношения к себе, к окружающему миру, раздвигаемому им до размеров всей человеческой цивилизации посредством государства, предполагающего частную инициативу.
-
• Индивидуализм, требующий формирования единого
централизованного национального государства, должен выражаться в появлении такой теории, которая представляла бы собой общественный договор самостоятельных равноправных индивидов, определяющий представление о необходимости государства унифицировано централизованного: когда все самостоятельны и равны, и каждый должен быть за самого себя, совместная жизнь этих всех требует именно такой единой государственной организации.
В конце XIX века Джон Рокфеллер говорил, что только наивный человек может еще верить в индивидуализм, поскольку наступил век корпораций. Если иметь в виду только частнопредпринимательскую часть таких заявлений, то внимание, тем не менее, привлекает электричество – в этом случае, прежде всего, как воплотившееся в телеграфе и телефоне средство коммуникации, позволявшее осуществлять концентрацию и централизацию капитала наиболее эффективным образом. Но ведь этим роль телеграфа и телефона не ограничивалась.
Отметим появление телеграфной прессы, которая предполагала, что ее сообщения должны быть понятны всем, что и делало ее предпочтительным средством межкультурной коммуникации как коммуникации для всех. Американский социолог Чарльз Кули отметил в этой связи, что пресса вызвала «радикальную перемену в социальном механизме, без анализа которой ничего нельзя понять правильно»ii. Он также ввел понятие «первичная группа» как совокупность непосредственно общающихся индивидов, принадлежащих к разным культурам, но находящим общий язык, следуя образцам, задаваемым, главным образом, всё той же телеграфной прессой.
Со временем стало появляться всё больше исследователей, которые в качестве отправной точки выбирали для себя способность электричества одновременно связывать любое количество любых людей независимо от содержания сообщений телеграфа, прессы, радио, телевидения и кино. И на первый план выступила работа сознания в режиме одновременности.
В голове каждого человека действуют два режима восприятия и мышления – одновременность и последовательность. И если технология Гутенберга и ее производные требуют, главным образом, линейной последовательности, что проявляется в ведущей роли соотношения индивидуализма и организованного по вертикали централизованного государства, то одновременность общения множества людей с помощью электронных средств коммуникации выводит их за пределы централизации по вертикали. Ведь одновременность и последовательность сами по себе не связаны между собой напрямую, и каждый человек должен выбирать в качестве ведущей одну из них.
Распространение электронных средств коммуникации делает для всё большего числа людей само собой разумеющимся выбор одновременности в качестве ведущего режима восприятия и мышления. Это не может не выражаться в снижении интереса к культуре чтения, требующей линейной последовательности, что выражается в появлении множества печатных изданий, где каждое сообщение выступает в качестве значимого самого по себе.
Как показывают исследования (см. Ellul J., La Propagande. 2e éd. Paris: Économica, 1990), если люди читают преимущественно то, что не требует самостоятельных умственных усилий, то у них ухудшаются память и наблюдательность. Распространение электронной культуры с задаваемым ее мозаичностью приматом одновременности восприятия и мышления способствует тому, что человек, не прошедший школу книжной культуры и чуждый ей, подавляет в себе последовательность, необходимую для самостоятельного и продуктивного отношения к происходящему.
Но дело не только в этом.
Если технология Гутенберга выводила на первый план индивидуализм, национализм и вертикально централизованное государство, то технологии коммуникации по принципу электронной одновременности предполагают непосредственную и незамедлительную вовлеченность множества людей в совместное действие.
Это наглядно проявилось в США при преодолении последствий урагана «Сэнди»: в то время как Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях из-за непогоды прекратило работу, представители движения Occupy Wall Street с его ресурсами электронного общения взяли инициативу на себя и под лозунгом «Occupy Sandy», привлекая всё больше и больше добровольцев, стали быстро и оперативно оказывать помощь пострадавшимiii. Роль государства в том виде, в каком она традиционно ассоциируется с управленческой культурой, тем самым была оттеснена на второй план, став фоном для демонстрации возможностей, которые дает выбор его электронного визави в качестве формы межкультурной коммуникации.