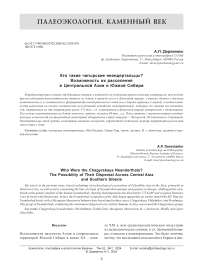Кто такие Чагырские неандертальцы? Возможность их расселения в Центральной Азии и Южной Сибири
Автор: Деревянко А.П.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Палеоэкология. Каменный век
Статья в выпуске: 2 т.52, 2024 года.
Бесплатный доступ
В предшествующем номере опубликована статья, в которой я на основании археологических материалов, полученных при исследовании палеолитических стоянок на Алтае и прежде всего в Денисовой пещере, а также данных о времени анатомического и генетического формирования неандертальского таксона в Европе прихожу к выводу о необоснованности выделения на основе генетических исследований алтайских неандертальцев, которые, по мнению исследователей, мигрировали на эту территорию ранее 175 тыс. л.н. и проживали в Денисовой пещере попеременно с денисовцами. Расселение неандертальцев на Алтае началось, видимо, не ранее 60 тыс. л.н. Пока стоянки с окаменелостями неандертальцев и микокской мустьероидной индустрией обнаружены в трех пещерах - Чагырской, Окладникова и Страшной. Неандертальцы этой группы, получившие название чагырских, определяют восточную границу территории расселения этого вида в Азии.
Чагырские неандертальцы, оби-рахмат, тешик-таш, микок, мустье, средний и верхний палеолит
Короткий адрес: https://sciup.org/145147180
IDR: 145147180 | УДК: 572.1/4(6) | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.2.003-019
Текст научной статьи Кто такие Чагырские неандертальцы? Возможность их расселения в Центральной Азии и Южной Сибири
Исследователи палеолита Алтая и сопредельных территорий Южной Сибири в конце XX – нача- ле XXI в. всю среднепалеолитическую индустрию из палеолитических стоянок, в т.ч. Денисовой пещеры, относили к неандертальцам. Это было логично, потому что исследователи палеолита в Европе в кон-
Археология, этнография и антропология Евразии Том 52, № 2, 2024 © Деревянко А.П., 2024
це среднего – первой половине верхнего плейстоцена выделяли только один таксон – H. neanderthalensis . Индустрию раннего палеолита ученые связывали с эректусами и гейдельбергцами, а среднего палеолита – с неандертальцами. Открытие в 1983 г. пещеры Окладникова с мустьерской индустрией древностью 45–40 (37) тыс. лет [Деревянко, Маркин, 1992] позволило сделать вывод о существовании в позднем плейстоцене на Алтае двух индустрий – среднепалеолитической в Денисовой пещере и типологически близкой к мустьерской индустрии неандертальцев Европы в пещере Окладникова. Проблема инденти-фикации разрешилась благодаря секвенированию ДНК из антропологических останков, обнаруженных в пещере Окладникова: выяснилось, что в ней расселялись неандертальцы [Krause et al., 2007]. Секвенирование ДНК окаменелости (Денисова 3), найденной в Денисовой пещере, привело к открытию ранее неизве стного таксона – денисовца, который генетически отличался от человека современного типа и неандертальца [Krause et al., 2010; Reich et al., 2010]. В 2007 г. С.В. Маркин открыл пещеру Ча-гырскую, в которой были обнаружены мустьерская индустрия и о станки неандертальцев древностью 60 (55)–45 тыс. лет [Деревянко, Маркин, Зыкин, 2008, 2009; Деревянко, Маркин, Зыкин и др., 2013; Деревянко, Маркин, Колобова и др., 2018]. Индустрии де-нисовцев и чагырских неандертальцев различались по всем основным технико-типологическим показателям первичного расщепления и по набору каменных орудий, а также способам их изготовления [Деревянко, 2001, 2009; Деревянко, Шуньков, Агаджанян и др., 2003].
Расселение чагырских неандертальцев на Алтае начало сь ок. 60 тыс. л.н.; их индустрия получила название сибирячихинской. Гомогенность индустрии чагырских неандертальцев, живших в пещерах Окладникова и Чагырской, проявляется прежде всего в первичном расщеплении (отбор исходного сырья, подготовка нуклеусов к раскалыванию и получение заготовок, в основном отщепов различных размеров).
Типологической основой наборов орудий сиби-рячихинской индустрии являются скребла и орудия типа déjeté. Диагностирующим элементом служат двусторонне обработанные орудия – бифасы. Наибольшее количество бифасиальных орудий удалось обнаружить в Чагырской пещере [Деревянко, Маркин, Колобова и др., 2018]. В морфологической структуре бифасиальных орудий, как считают исследователи, доминировали листовидные формы, представлены также сегментовидные, трапециевидные и треугольные. В соответствии с общими морфометрическими признаками двусторонне обработанные орудия подразделяются на бифасиальные скребла и острия. В коллекции выделяется также группа обушковых ножей-скребел, которые могут быть отнесены к обушковым ножам кайльмессер – маркеру восточноевропейского микока [Шалагина и др., 2019]. В целом сибирячихинскую индустрию следует рассматривать как вариант микокской мустьеро-идной индустрии.
Стоянки в пещерах Чагырской и Окладникова были временными лагерями охотников-собирателей, охотившихся на диких животных в долинах Чарыша и Сибирячихи, здесь они перерабатывали свою добычу. Судя по составу фауны крупных млекопитающих Алтая, основным объектом охоты обитателей Чагыр-ской пещеры были бизоны (54 %), преимущественно полувзрослые особи или самки. На некоторых костях сохранились следы применения чагырцами каменных орудий. Охота на бизонов носила, скорее всего, сезонный характер и могла быть приурочена к ежегодным миграциям стад Bison priscus в долине Чарыша [Деревянко, Маркин, Колобова и др., 2018].
Хозяйственная деятельность чагырцев, живших в пещере Окладникова, была связана с охотой на крупных животных, в основном на лошадь, аргали, носорога, бизона, благородного оленя. Значительная часть орудий с этой стоянки имеет признаки использования для разделки и обработки охотничьей добычи.
Кто же такие чагырские неандертальцы, каковы их происхождение и ареал в Центральной Азии и Южной Сибири?
Морфология посткраниальных останков чагырских неандертальцев
В пещере Окладникова, по подсчетам А.П. Бужило-вой [2013], в общей сложности обнаружены останки не менее двух детей, одного подростка и одного взрослого. Два последних, считает исследователь, возможно, разного пола. Фрагменты детских костей (Окладникова 7, 8 и 10), вероятно, принадлежали одному ювенильному индивиду (9–12 лет). Два нижних зачатка третьего моляра М3 (Окладникова 4 и 5) соответствуют одной стадии развития, при этом гипоплазия эмали достигает 1,7–2,0 мм над шейкой зуба. Сходные возрастные признаки и одинаковые индикаторы стресса позволяют сделать вывод о том, что зубы принадлежали одному индивиду [Там же].
В Чагырской пещере найдены останки пяти взрослых индивидов. Четыре изолированных молочных зуба (Чагырская 1, 18, 19 и 20) были утрачены естественным образом, поэтому теоретически они могли принадлежать одному подростку или четырем разным особям детского возраста [Деревянко, Маркин, Колобова и др., 2018].
В настоящее время, несмотря на малочисленность антропологических находок с палеолитических стоя- нок Алтая, благодаря проведению различных лабораторных исследований удалось получить значительное количество данных о морфологии не только денисов-цев, но и чагырских неандертальцев [Viola, 2009; Viola et al., 2011, 2012; Dobrovolskaya, Tiunov, 2011; Медникова, 2011а, б; 2013а, б; Бужилова, 2013; Добровольская, Тиунов, 2013; Медникова и др., 2013; Добровольская, Медникова, 2015].
Одними из наиболее информативных антропологических находок оказались остатки зубной системы. В пещерах Окладникова и Чагырской обнаружены зубы разновозрастных особей чагырских неандертальцев, а в Чагырской пещере – еще и фрагмент нижней челюсти. Из культуросодержащих слоев пещеры Окладникова извлечены пять зубов подростков 12– 14 лет и детей 5–7 лет: второй нижний правый молочный моляр m2 (слой 7), первый нижний левый премоляр P1, первый (второй ?) нижний левый постоянный моляр M1(2?), третий нижний правый постоянный моляр M3 (слой 3) и третий нижний левый постоянный моляр M3 (слой 2). Эти находки чрезвычайно важны для изучения вопросов, касающихся последовательности заселения территории Алтая представителями рода Homo . Поэтому одонтологические материалы исследовались несколькими антропологами, в результате чего были получены три разные интерпретации их таксономической принадлежности.
Согласно первому заключению, которое дал американский ученый К. Тернер, зубы ископаемых гоми-нинов из пещеры Окладникова имеют ряд хорошо выраженных черт неандертальского одонтологического комплекса, тяготеющего к представителям европейских, а не азиатских групп H. s. neanderthalensis [Turner, 1988, 1990а, b]. В.П. Алексеев, занимавшийся позже изучением этих находок, считал, что малочисленность и состояние образцов не позволяют однозначно определить их таксономическую принадлежность. По его мнению, морфологические особенности данных зубов допускают их связь с ископаемым человеком современного физического типа [Alekseev, 1998].
Одонтологические материалы из пещеры Окладникова изучались после В.П. Алексеева и К. Тернера и другими антропологами. Все специалисты отмечали сложность интерпретации находок. С точки зрения Б. Виолы, с одной стороны, очевидна архаичность и неандерталоидность, которые подчеркивались сильной складчато стью жевательной поверхности и усложненным рисунком борозд, ярко выраженной передней ямкой и наличием ше стого бугорка; с другой стороны, первый моляр из пещеры Окладникова не имеет характерного для неандертальцев признака (96 % по данным Ш. Бэйли [Bailey, 2002]) – эпикристида [Zubov, 1992]. Третьи моляры другого индивида из этой же пещеры, по мнению
Б. Виолы, демонстрируют неполное формирование гребня, что косвенно указывает на наличие эпикри-стида. По результатам микротомографии и виртуальной трехмерной реконструкции всех нижних коренных зубов из пещеры Окладникова исследователю удалось выявить наличие эпикристида на поверхности дентина в месте перехода (соединения) эмали и дентина. Б. Виола, ссылаясь на сводку Ш. Бэйли [Bailey, 2002], подчеркивает, что такая особенность приближает эти находки к неандертальским [Viola, 2009, p. 133].
Б. Виола изучил два зуба из Чагырской пещеры и, несмотря на неполную их сохранность и очевидную стертость коронок, подтвердил принадлежность обитателей пещеры к неандертальскому физическому типу [Viola et al., 2011]. Коллективом авторов были опубликованы результаты предварительного анализа фрагмента нижней челюсти с сохранившимися in situ зубами – клыком, двумя предкоренными и двумя коренными. Не очень сильная стертость коронок позволила проследить на коренных зубах наличие передней ямки и эпикристида, а на предкоренных – развитие метаконида и гребня, характерных для одонтологического комплекса неандертальцев. Эта находка, с точки зрения исследователей, позволяет связать гомининов Алтая с неандертальцами Западной Европы [Viola et al., 2012].
Наиболее полное исследование одонтологического материала из пещер Окладникова и Чагырской (результаты раскопок 2008–2012 гг.) выполнила А.П. Бу-жилова [Buzhilova, 2011; Бужилова, 2013]. В ходе анализа зубов из этих местонахождений она также обращалась к одонтологическим находкам из пещер Страшная и Денисова.
А.П. Бужилова, несмотря на ограниченность и фрагментарность находок, делает целый ряд очень важных выводов. Остановлюсь на некоторых из них. Проведенный сравнительный анализ позволил исследователю утверждать, что по диаметрам коронок молочных зубов чагырские неандертальцы занимают промежуточное положение между другими евразийскими неандертальцами и людьми анатомически современного типа. По классу передних молочных зубов выявлена тенденция возможной преемственности между чагырскими неандертальцами и некоторыми группами верхнепалеолитического населения Сибири (Лиственка, Страшная), а по классу коренных зубов очевидна близость к массивным верхнепалеолитическим формам Европы и отчасти Сибири (Мальта). Однако для уточнения этих выводов необходимо накопление новых сведений.
В целом, как по некоторым размерам коронок, так и по части фенотипических признаков, отмечает А.П. Бужилова, зубы из пещер Окладникова и Чагыр-ской обнаруживают близость к зубам представителей палеолитических сапиенсов, хотя часть из них, несомненно, может быть отнесена к неандертальским формам. Такое сочетание древних и более продвинутых в эпохальном плане одонтологических признаков можно считать особенностью неандертальцев из алтайских пещер. «Таким образом, данные одонтологии подтверждают выявленную ранее по морфологическим признакам скелета промежуточность чагырских неандертальцев между другими неандертальцами Евразии и людьми анатомически современного типа» [Бужилова, 2013, с. 64].
Морфология посткраниальных останков из пещеры Окладникова наиболее подробно описана М.Б. Медниковой [2011б]. В своей монографии она рассматривает 12 посткраниальных костей, среди которых – ювенильные образцы (плечевая, правая и левая бедренные кости, ладьевидная кость стопы) и останки взрослых индивидов (плечевая кость, коленная чашечка, элементы стопы и кисти). По мнению исследователя, ювенильные ко сти из пещеры Окладникова по диафизарным параметрам и морфологическим признакам имеют сходство с неандертальским ребенком из грота Тешик-Таш. Согласно заключению Д.Г. Рохлина [1949], возраст тешик-ташской особи, определенный по посткраниальному скелету, со ставляет 7–9 лет, а по степени прорезания зубов – 9–10 лет. Опираясь на эти данные, М.Б. Медникова [2011б, с. 20] делает вывод, что даже с учетом индивидуальной изменчивости темпов соматического развития 8–10 лет – это наиболее вероятный возраст алтайского ребенка. На основании размеров бедра длина тела ребенка из грота Тешик-Таш – всего 123 см, а неандертальца из пещеры Окладникова – 129 см. Как подсчитано М.Б. Медниковой по методике [Palkama et al., 1965], рост обоих индивидов составлял 138 см. Все ювенильные кости из пещеры Окладникова были одного возраста, поэтому М.Б. Медникова не исключает, что они принадлежали одной особи.
Исследователь провела детальный, скрупулезный анализ посткраниальных останков взрослых особей из пещеры Окладникова и составила обобщенное описание скелета неандертальца из этой пещеры. При этом учитывалось, что большая часть фрагментов костей принадлежала, вероятно, женщинам/ женщине. Уровень полового диморфизма у шани-дарцев, наиболее хорошо изученных по этому признаку, был достаточно велик. Исходя из этого, можно было бы распространить эту особенность и на мужчин из пещеры Окладникова. У европейских поздних неандертальцев степень различия в размерах тела мужчин и женщин был меньше, и, по мнению М.Б. Медниковой, «это тоже надо принимать во внимание» [2011б, с. 72]. Если опираться на размеры медиальной фаланги кисти, длина тела мужчин из пе- щеры Окладникова могла варьировать в пределах 160–163 см. Длина тела женщин не могла превышать размеры, известные для представительниц неандертальцев в Передней Азии, – ок. 158 см.
Характеризуя пояс верхних конечностей, М.Б. Медникова указывает, что тело плечевой кости ровное, прямое, без «перекручивания» торзиона. Сечение диафиза подтреугольной формы. Срез костно-мозгового канала имеет форму овала, вытянутого вперед. Фиксируются массивность кортикального слоя и незначительное развитие медуллярной полости. По размерам нижнего эпифиза кость соотносится с наиболее грацильными формами гомининов среднего и верхнего палеолита.
В описании пояса нижних конечностей отмечено, что в середине и в подвертельной области бедренной кости диафиз вытянут в медиально-латеральном направлении. Пилястр у взрослых предположительно отсутствует. Отмечены широкая ягодичная бугристость и низкий угол шейки бедра, сопоставимый со значениями, характерными для ранних Homo . При этом шейка исключительно массивная и короткая. Высока внутренняя массивность диафиза, особенно утолщены боковые стенки.
Фрагменты посткраниальных останков из пещеры Окладникова, несмотря на принадлежность людям разного пола и возраста, в т.ч. детям, обнаруживают, по мнению исследователя, нечто общее, а именно специфическое сочетание архаических и уникальных (индивидуальных) особенностей. По морфологии посткраниального скелета создатели сибирячи-хинской индустрии ближе всего к неандертальцам, однако некоторые архаические черты сближают их с эректусами. Меньше всего общего у чагырских палеоантропов с ранними анатомически современными людьми Ближнего Востока (кроме индексов формы таранной кости).
М.Б. Медникова особо выделяет ряд своеобразных признаков, по-видимому, присущих именно чагырской группе. Основным фактором их формирования был эффект основателя, проявляющийся как генетико-автоматический проце сс в условиях изоляции. Еще одним фактором могла быть биологическая адаптация к условиям жизни в алтайском низко- и среднегорье. Кости посткраниального скелета представителей этой группы при общей миниатюрно сти демонстрируют системную морфологическую тенденцию, которая проявляется в специфическом расширении суставных поверхностей, широтной гипертрофии надколенника и др. [Там же, с. 72–73].
На основе сравнительного анализа М.Б. Медникова выявила девять морфологических признаков сходства между алтайской группой палеоантропов и неандертальцами из Табуна и Шанидара.
-
1. Плечевая кость ребенка из пещеры Окладникова по индексу поперечного сечения середины диафиза сближается с Табун С1.
-
2. Правая бедренная кость ребенка из пещеры Окладникова по указателю пиластрия (87,18) приближается к индексу сильно уплощенного в передне-заднем направлении бедра Табун С1 (вычислено по данным: [Pearson, 1997, р. 673]). Такое строение бедра считается особенностью эректоидной морфологии.
-
3. Левая бедренная кость чагырского ребенка аналогично обнаруживает сходство в слабой пролонгации диафиза в боковой плоскости.
-
4. Плечевая ко сть взрослого индивида из пещеры Окладникова обнаруживает сходство с наиболее грацильными формами, среди которых ближайшие – среднепалеолитические Шанидар 6 и Табун С1.
-
5. Надколенник из пещеры Окладникова имеет сходство по длине (высоте) с коленной чашечкой Табун С1. Все другие неандертальцы имели более крупные надколенники.
-
6. Правая пяточная кость из пещеры Окладникова по ширине и высоте тела ближе всего к Табун С1.
-
7. Таранная кость взрослой особи из пещеры Окладникова по общей длине, длине головки и шейки, а также по малым для неандертальцев размерам сочленовной фасетки латеральной лодыжки сближается с Табун С1.
-
8. Медиальная фаланга третьего или четвертого луча из пещеры Окладникова по суставной длине и ширине в середине диафиза оказывается в поле изменчивости шанидарских мужчин, а по указателю массивности совпадает с медиальной фалангой третьего пальца Табун С1. Несмотря на дискуссию о месте нахождения образца Табун С1 – в слое В или в слое С, древность этой особи находится в переделах 122 ± 16–139 ± 25 тыс. л.н. [Bar-Yosef, Callander, 1999; Grün, Stringer, 2000].
-
9. Разрушенная медиальная фаланга второго луча из пещеры Окладникова проявляет сходство с Табун С1 по высоте (уровню уплощенности) и в меньшей степени – по ширине головки [Медникова, 2011б, с. 80–81].
На основании всего вышеизложенного исследователь приходит к выводу, что мозаичные черты сходства между популяциями неандертальцев Леванта и Алтая могут указывать на их близкое генетическое родство. Поскольку эти популяции относятся к удаленным друг от друга территориям и периодам, нельзя исключить возможность исхода неандертальцев подобного морфотипа из какого-то третьего, промежуточного, центра [Там же, с. 80–82].
При рассмотрении морфологии посткраниальных находок М.Б. Медникова обращает особое внимание на массивность некоторых костей из пещер Окладникова и Чагырской. Этой проблеме посвя- щен специальный анализ фаланг кисти Окладникова 2, Окладникова 5 и Чагырская 16-3-12 (в новой нумерации – Chagyrskaya 56с) [Медникова, Шуньков, Маркин, 2017]. Исследования геометрии поперечного сечения медиальных фаланг 2–4-го лучей кисти проводились с использованием метода микротомографии, который позволяет изучать внутреннюю структуру объектов без их разрушения. Анализу были подвергнуты окаменелости из пещер Окладникова и Чагырской, а также останки пяти неандертальцев Европы.
Все находки, за исключением образцов Ля Ферра-си 1, 2 и Абри Пато, которые изучались с помощью оборудования Музея человека в Париже, были отсканированы на рентгеновском 3D-микроскопе Xradia Versa XRM-500 в лаборатории ООО «Системы микроскопии и анализа» (Мо сква). Ранее этот же прибор использовался для рентгеновской микроскопии фаланги девочки из Денисовой пещеры [Медникова и др., 2013].
По целому ряду показателей неандертальцы из пещер Окладникова и Чагырской отличались от представителей западных популяций. Так, при рассмотрении показателя массивности стенок обращает на себя внимание широкий диапазон индивидуальной изменчивости, характерный и для неандертальцев, и для кроманьонцев. У неандертальских мужчин из Европы и Сибири различия в уровне кортикализации фаланг не столь значительны по сравнению с представительницами этого таксона, обитавшими на Алтае в пещерах Окладникова и Чагырской. Данные именно по этим женщинам определяют границы изменчивости признака для неандертальцев: гипермассивный вариант в пещере Окладникова и гиперграцильный – в Чагырской.
Между чагырскими и европейскими неандертальцами имеются некоторые не только морфологические, но и генетические различия, что объясняется их дивергенцией. У неандертальцев в результате расселения на обширной и неоднородной по экологическим условиям территории Евразии и, видимо, нередко изолированно от других групп сформировалась значительная изменчивость в морфологии, равно как и вариабельность в индустрии. М.Б. Медникова, обобщив информацию по всем посткраниальным находкам Алтая, пришла к выводу, что с точки зрения морфологии местные неандертальцы характеризуются высокой индивидуальной изменчивостью, в которой прослеживаются определенные закономерности [Mednikova, 2014, 2015]. Проксимальная фаланга стопы и дистальная фаланга кисти из Денисовой пещеры [Медникова, 2011а, 2013а], трубчатые кости разных индивидов из пещеры Окладникова [Медникова, 2011б] выделяются, даже на общенеандертальском фоне, очень толстыми стенками. Посткраниальные кости из Чагыр- ской пещеры принадлежали неандертальцам, кости которых не отличались экстраординарной внутренней массивностью [Медникова, 2013б].
Результаты изучения медиальных фаланг кисти с применением микротомографии подтверждают ранее сделанные выводы о дифференциации неандертальцев Южной Сибири как минимум на два морфологических варианта [Mednikova, 2015]. Высказывалось предположение, что эти варианты связаны с разными волнами миграции Н. neanderthalensis на Алтай, а также с генетическими контактами неандертальцев с представителями других таксонов, например с де-нисовцами [Ibid.].
Вместе с тем, как подчеркивают М.Б. Медникова и ее коллеги, с учетом территориальной близости указанных пещер нельзя исключить генетические контакты и между группами проживавших в них людей. В любом случае широкий размах изменчивости является фенотипическим отражением сложной истории происхождения чагырских неандертальцев [Медникова, Шуньков, Маркин, 2017].
Предположение о возможном разделении чагыр-ских неандертальцев на две группы, которые независимо друг от друга мигрировали на территорию Южной Сибири, с моей точки зрения, требует дополнительных доказательств. Когда готовилась статья «Массивность фаланг кисти в контексте происхождения неандертальцев Алтая» [Там же], я отказался быть в числе соавторов, потому что у чагырских неандертальцев наблюдается значительная вариабельность в морфологии. М.Б. Медникова [2011б] сама отмечала ярко выраженную грацильность женских особей, и очень вероятно, что разница в массивности костей объясняется половым диморфизмом. Имеющаяся выборка – образцы из пещеры Окладникова – явно недостаточна для фундаментального вывода о том, что имели место две или более миграционные волны неандертальцев на Алтай. Такому выводу противоречит, в частности, то, что каменные индустрии пещер Чагырской и Окладникова проявляют хорошо выраженную преемственность и составляют единый си-бирячихинский индустриальный технико-типологический комплекс каменных изделий.
М.В. Добровольская и А.В. Тиунов [2013] на основе данных изотопного анализа провели исследование пищевого рациона чагырских неандертальцев. В ходе изучения коллагена из костной ткани остатков посткраниального скелета не были выявлены различия у гомининов из пещеры Окладникова – взрослых и подростков, мужчин и женщин. Для сравнительного анализа был выделен коллаген из образцов костной ткани травоядных животных [Tiunov, Dobrovolskaya, 2011; Dobrovolskaya, Tiunov, 2011]. Исследователи пришли к однозначному заключению о том, что обитатели пещер Окладникова и Чагырской охотились на животных определенных видов. Возможно, в их рацион входила рыба.
Заслуживает внимания вывод исследователей о некоторых сторонах жизнедеятельности гомини-нов из пещер Окладникова и Чагырской. Соотношение 87Sr/86Sr в эмали зубов [Latkoczy et al., 2004] свидетельствует о том, что чагырцы провели свою жизнь в данной местности, не покидая ее. Вероятно, благоприятные экологические условия обеспечивали достаточно комфортное проживание людей. Причем дети, подростки, взрослые особи, мужчины и женщины были в равной мере обеспечены пищей. И действительно, у чагырских неандертальцев был кров – пещера, вокруг которой располагались степи и лесостепи, населенные разнообразными животными, включая крупных копытных, имелись постоянные источники пресной воды, исходное сырье для изготовления орудий. Все это способствовало длительному проживанию на одном месте [Добровольская, Тиунов, 2013].
Геномная последовательность чагырских неандертальцев
Окончательно таксономическую принадлежность антропологических останков из пещеры Окладникова удалось установить в результате секвенирования их ДНК [Krause et al., 2007]. В геноме подростка из пещеры Окладникова была выявлена мтДНК неандертальца, благодаря чему удалось расширить ареал этого таксона на востоке Азии. Сравнение последовательности мтДНК гомининов из пещер Окладникова и Тешик-Таш с таковой неандертальцев Европы показало, что особь из пещеры Тешик-Таш проявляет большее сходство с индивидами из пещеры Склади-на в Западной Европе, чем неандерталец из пещеры Окладникова. Подростки, останки которых найдены на Алтае и в Узбекистане, относятся к европейским и западноазиатским неандертальцам [Ibid.].
Важную информацию удало сь получить в результате секвенирования ДНК из фаланги Чагырская 8 [Mafessoni et al., 2020]. Согласно генетическим исследованиям, особь жила ~80 тыс. л.н., что противоречит предполагаемому времени расселения неандертальцев в пещере (60–45 тыс. л.н.). По 14С- и OSL-датам для стоянки в Чагырской пещере, индивиды Чагыр-ская 8 и Денисова 3 жили примерно в одно время.
Чагырская 8, как отмечают исследователи, демонстрирует больше общих производных аллелей с Виндия 33.19 (Хорватия) и другими более поздними неандертальцами, расселявшимися на Кавказе и в Европе, чем с Денисова 5. По сравнению с Виндия 33.19 Чагырская 8 обладает меньшим количеством общих производных аллелей с другими неандертальцами, жившими в Европе ~50 тыс. л.н., т.е. примерно в то же время, что и Виндия 33.19. Однако Чагырская 8 имеет больше общих производных аллелей, чем Виндия 33.19, с Денисова 11, гибридом неандерталки и денисовца в первом поколении [Slon et al., 2018]. Виндия 33.19 и Чагырская 8 не отличаются по общим производным аллелям от Денисова 3; это означает, что среди известных в настоящее время неандертальцев Чагырская 8 наиболее тесно связана с Денисова 11 [Mafessoni et al., 2020, p. 15133]. Ча-гырская 8 имеет менее тесную связь с Виндия 33.19 и другими неандертальцами, которые внесли свой вклад в генетическое наследие современного неафриканского населения.
На основе коалесцентного анализа и моделирования было установлено, что индивиды Чагырская 8 и Денисова 5 могли входить в небольшие субпопуляции, включавшие не более 60 особей, тогда как численность субпопуляций ранних людей современного типа и денисовцев, судя по результатам исследования генома Денисова 3, составляла более 100 чел., при условии, что скорость миграции между популяциями составляет 1 % или менее.
Исследователи пришли к выводу, что Чагырская 8 более тесно связана с Виндия 33.19 и другими поздними неандертальцами Западной Европы, чем с неандертальцем Денисова 5. Неандертальцы, жившие в Чагырской пещере, связаны с популяциями неандертальцев, которые мигрировали из Европы на восток в период между 120 и 80 тыс. л.н. Некоторые пришедшие на Алтай неандертальцы встретили здесь местные денисовские сообщества; вследствие этих контактов появился, например, индивид Денисова 11, у которого отцом был денисовец, а матерью – неан-дерталка из группы, к которой принадлежала особь Чагырская 8 [Ibid.].
Палеогенетические исследования чагырских неандертальцев являются в настоящее время самыми результативными и масштабными, если говорить о генетическом исследовании этого таксона в целом. К секвенированию были привлечены 11 образцов из Ча-гырской пещеры и 2 образца из пещеры Окладникова. Результаты полногеномных исследований останков ча-гырских неандертальцев позволили не только получить информацию о геноме этой популяции, но и составить представление о социальной организации изолированного сообщества неандертальцев на самой восточной границе их ареала [Skov et al., 2022].
Особый интерес вызывают данные о социальной организации группы неандертальцев, установленные в ходе изучения Y-хромосомы и мтДНК останков из пещер Чагырской и Окладникова. Как известно, Y-хромосома передается по мужской линии, а мтДНК – по женской (от матери к дочери). Для выявления близких генетических связей исследователи проанализировали случаи гетероплазмии мтДНК. Ге-тероплазмия может передаваться от матери к ребенку и обычно сохраняется не менее чем в трех поколениях, поэтому ее наличие в нескольких останках индивидов будет указывать на то, что они были близко связаны по материнской линии [Ibid., p. 521].
На основе генетических данных была установлена принадлежность молочного (Чагырская 19) и двух по стоянных зубов (Чагырская 13 и 63), несмотря на разные стадии их развития, одной особи мужского пола. Судя по полностью рассосавшемуся корню молочного зуба, он выпал, вероятно, по естественным причинам. Исследователи также определили, что два образца – фрагмент нижней челюсти с правой стороны с несколькими зубами (Чагырская 6) и левый нижний второй резец (Чагырская 14) – принадлежали одному взро слому индивиду, на что указывают морфологическое соответствие и идентичные последовательности мтДНК. К одной особи женского пола относятся Чагырская 12 и Чагырская 8. Оказалось, что взрослый индивид мужского пола Чагыр-ская 7 родством первой степени связан с подростком женского пола Чагырская 17. Поскольку эти два индивида имели разные митохондриальные геномы, исследователи пришли к выводу, что это были отец (Чагырская 7) и дочь (Чагырская 17). Кроме того, мтДНК особи Чагырская 7 была идентична таковой двух других особей – Чагырская 9 и Чагырская 14. Они, как показали исследования общей гетеропла-зии мтДНК, возможно, являлись близкими родственниками (четвертой степени) по материнской линии: у них могла быть общая бабушка. Близкородственные связи свидетельствуют о том, что все три особи были современниками. Установлено также, что мужская особь Чагырская 1 и женская особь Чагыр-ская 60 со стояли в родстве второй степени и жили в пещере в близкие периоды. Генетические расхождения между всеми рассмотренными обитателями пещеры не были существенными. Эти и другие данные позволили исследователям сделать вывод о том, что все неандертальцы из Чагырской пещеры являлись частью одного сообщества [Ibid., p. 522].
Две особи из пещеры Окладникова не были родственниками и не имели родственных связей ни с одним из индивидов из Чагырской пещеры. Следовательно, неандертальцы из пещеры Окладникова не принадлежали сообществу из Чагырской пещеры. Тем не менее мтДНК Окладникова 15 идентична мтДНК образцов Чагырская 13, 19 и 63, которые, как было установлено, представляют одну особь. Поскольку мутации накапливаются с течением времени, одинаковая мтДНК у разных индивидов означает, по мнению исследователей, что эти два индивида жили в периоды, разделенные несколькими тысячелетиями [Ibid.].
Важные результаты были получены при сравнении вариантов нуклеотидов с опубликованными ранее геномами неандертальцев. Геном неандертальцев из Ча-гырской пещеры с высокой степенью покрытия среди всех 13 известных геномов неандертальцев имел наибольшее сходство с Виндия 33.19 (Хорватия). Исследователи пришли к следующему выводу: хотя сообщества из пещер Чагырская и Окладникова различались генетически, оба, по-видимому, были одинаково связаны с европейскими неандертальцами и являлись частью одной популяции; ни у одного из индивидов не обнаружены следы недавнего дрейфа генов из других популяций неандертальцев [Ibid.].
Исследования генома неандертальцев из Чагыр-ской пещеры помогли уточнить возможную численность особей, проживавших на этой стоянке. Если ранее предполагалось, что в пещерах Окладникова и Чагырская обитали по несколько десятков неандертальцев, то согласно новым данным, там проживало по 15–20 особей. Эта численность больше соответствует «жилой площади» пещер. Кроме того, выяснилось, что в Чагырской пещере при численности популяции в 20 особей 60–100 % живших в ней женщин происходили из других сообществ. Однако гете-роплазмия у особей Чагырская 14 и Чагырская 7 указывает на то, что по крайней мере несколько женщин оставались в том сообществе, в котором родились.
Таким образом, антропологические и генетические исследования останков неандертальцев, проживавших в пещерах Чагырской и Окладникова, показали, что эти гоминины относились к во сточной ветви европейских неандертальцев, сформировавшихся в Западной Европе 200–150 тыс. л.н. Западные и восточные неандертальцы, как и люди современного типа и денисовцы, скрещивались, у них рождалось плодовитое потомство [Green et al., 2010; Reich et al., 2011; Fu et al., 2015; и др.]. Это позволяет считать все три таксона не разными видами, а подвидами одного вида H. sapiens sapiens . Именно в результате их ассимиляции между собой при стволовой роли африканских ранних людей современного типа сформировалось современное население [Деревянко, 2019, 2022; Деревянко, Шуньков, Козликин, 2020].
Возможные маршруты миграции европейских неандертальцев на Алтай и проблема расселения чагырских неандертальцев в Центральной Азии
Чагырские неандертальцы, как показали антропологические и генетические исследования, проявляют значительную вариабельность в своей морфологии и генетической последовательности и имеют сходство с представителями этого таксона с Ближнего Востока и из Европы. В связи с этим встает вопрос о возможном маршруте их миграции на восток Азии и расселения на территории Центральной Азии.
Э. Гасидиан и его соавторы рассмотрели возможный маршрут расселения неандертальцев с Кавказа на восток Азии [Ghasidian et al., 2023]. С учетом физико-географических данных, характеризующих эти территории в эпоху позднего плейстоцена, они создали модель оптимального пути расселения неандертальцев, останки которых обнаружены в пещерах Окладникова и Чагырская. Исследователи исходили из предположения о наличии у неандертальцев Кавказа двух различных технокомплексов: микокского, представленного на Большом Кавказе, и мустьерского – на Малом. В этой связи считаю необходимым отметить, что мустьерская индустрия неандертальцев характеризуется большой вариабельностью: в Европе выделены около десяти вариантов, одним из них можно считать микокскую индустрию. Значительная вариабельность в индустрии зафиксирована у неандертальцев Кавказа [Любин, 1977; Дороничев, 1993; Голованова и др., 2006, 2022; Дороничева и др., 2020; и др.]. Исследователи уделили большое внимание анализу природно-климатической обстановки в хронологическом диапазоне 71–57 тыс. л.н. (МИС 4). Установлено, что этот период характеризуется холодным и засушливым климатом.
Э. Гасидиан и его коллеги рассматривают два возможных маршрута расселения неандертальцев с Кавказа – по южнокаспийскому и северокаспийскому коридорам. Во время, отвечающее МИС 4, в результате похолодания и аридизации климата произошла сильная регрессия Каспийского моря, его уровень мог опуститься примерно на 120–140 м, в результате чего подверглись осушению большие территории. В предшествующий период (МИС 5), связанный с поздней хазарской трансгрессией, уровень Каспийского моря был значительно выше, и оно, как считают исследователи, соединяло сь с Черным морем [Ghasidian et al., 2023].
Южный маршрут, начинавшийся от пещеры Азых и до восточной части Алтая, по мнению исследователей, проходил, вероятно, по узкой полосе суши между Каспийским морем и горами Эльбурс через Гирканский биогеографический рефугиум, затем вдоль северных предгорий Гиндукуша и Памира до горного хребта Гиссар в направлении Тянь-Шаня [Ibid., p. 14].
Компьютерная программа сгенерировала маршрут из двух основных частей: первая – путь начинался от пещеры Азых в Азербайджане и заканчивался у пещеры Тешик-Таш в Узбекистане, а вторая – от Те-шик-Таша до Алтая. Были разработаны два варианта второй части маршрута. Один предполагал прохожде- ние через северные предгорья Копетдага, а другой – через горные долины и равнины к югу от Копетдага. У северных подножий Гиндукуша эти два маршрута соединялись и шли в направлении Алтая.
Северный маршрут расселения неандертальцев начинался в Мезмайской пещере на Большом Кавказе и заканчивался в Чагырской пещере на Алтае. Опираясь на генетические и археологические данные, исследователи предположили, что это был прямой путь из Восточной Европы в Сибирь. В период 70–55 тыс. л.н. неандертальцы могли пересечь Понтийско-Каспийский регион, проникнув в южные широты Большого Кавказа. Как считают исследователи, следы пребывания этой группы неандертальцев с му-стьерской индустрией на Малом Кавказе в указанный период полностью отсутствуют [Ibid., p. 13].
Рассматривая две компьютерные модели маршрутов миграции неандертальцев в восточную часть Азии, ученые предположили, что во время похолодания (МИС 4) южнокаспийский коридор был более предпочтительным из-за более благоприятных условий обитания и являлся своего рода рефугиумом.
Индустрии, обнаруженные при раскопках пещер Окладникова и Чагырской, по некоторым технико-типологическим критериям (прежде всего по наличию двусторонне обработанных орудий типа клаузеннише и бокштейн) ближе всего к восточноевропейскому ми-коку [Деревянко, Маркин, Колобова и др., 2018].
Исследования, проведенные Э. Гасидиан с коллегами, безусловно, отличаются фундаментальностью и междисциплинарным подходом. Однако если рассматривать территорию Центральной Азии как транзитную при расселении неандертальцев с микокской индустрией с запада на восток, то необходимо иметь в виду, что из этого обширного региона происходит небольшое количество антропологических материалов.
Наиболее ранние антропологические о станки в Центральной Азии найдены в пещере Сельунгур, расположенной на западной окраине пос. Хайдаракан в Ошской обл. на юге Кыргызстана [Исламов, Крахмаль, 1995]. В пещере выделены 13 литологических слоев, среди них 5 культуросодержащих, в которых исследователям удало сь обнаружить 1 412 каменных изделий и большое количество фаунистических остатков. Во втором и третьем культуросодержащих слоях залегали антропологические останки: во втором – фрагменты черепной крышки и разрозненные зубы человека, в третьем – отдельные зубы (10 экз.) и фрагменты плечевой кости [Исламов, 1990; Исламов, Крахмаль, 1995]. Зубы и фрагменты плечевой кости изучались разными исследователями [Исламов, Зубов, Харитонов, 1988; Исламов, Крахмаль, 1995; Зубов, Ходжайов, 1997].
На основе полученных данных о сравнительно небольшом количестве относительно малоинформа- тивных классов зубов с сильной стертостью – резцов и премоляров – антропологи попытались определить таксономическое положение антропологических находок из Сельунгура. В результате исследований антропологи пришли к выводу, что особь, которой принадлежали премоляры, занимает место между палеоантропами и архантропами, значительно отклоняясь при этом от общего направления эволюционной линии ввиду исключительно больших значений вестибуло-лингвального диаметра коронки [Исламов, Зубов, Харитонов, 1988; Зубов, Ходжайов, 1997]. С учетом столь больших размеров коронки, я уверен, что эту особь можно отнести к поздним гейдельбергцам (денисовцам), которые мигрировали из Леванта 400–350 тыс. л.н. на восток и расселялись длительное время в Центральной Азии [Деревянко, 2022].
Более информативными являются антропологические материалы слоя 16 из пещеры Оби-Рахмат; в данном слое удалось зафиксировать небольшое количество изделий оби-рахматской индустрии. Антропологические находки включали 6 отдельных постоянных зубов верхней челюсти и ок. 150 мелких фрагментов черепа OR-1 [Гланц, Виола, Чикишева, 2004; Виола, Зайдлер, Нэдден, 2004; Glantz et al., 2008; Bailey et al., 2008]. Преобладающая часть окаменелостей зафиксирована in situ на небольшом участке, прилегающем к южной стенке центрального раскопа. Некоторые из них удалось выявить при промывке культуросодержащих отложений с указанного участка. Находки были сосредоточены на площади 0,5 м2, однако ввиду фрагментарности отнести их к захоронению не представляется возможным. Для слоя 16 не получено дат, но для вышележащего слоя 14, разделенного на три горизонта, имеется несколько дат, установленных 14С-и ESR-методами. Для горизонта 14.1 с верхнепалеолитической индустрией получена некалиброванная дата 48 800 ± 2 400 л.н. (АА-36746), для горизонта 14.3 – две ESR-даты (FT 26): 40 600 ± 1 600 л.н. (EU) и 72 800 ± 3 700 л.н. (LU). С моей точки зрения, слой 16 можно датировать временем ок. 60 тыс. л.н. или более ранним периодом.
Зубы и фрагменты черепа изучались многими антропологами [Гланц, Виола, Чикишева, 2004; Виола, Зайдлер, Нэдден, 2004; Glantz et al., 2008; Bailey et al., 2008]. С учетом морфологии зубов и фрагментов черепа OR-1 исследователи сделали вывод о том, что окаменелость не может быть с уверенностью отнесена ни к людям современного антропологического типа, ни к неандертальцам, ни к архаичным H. sapiens. «Четкому определению морфологической принадлежности черепа OR-1 мешают его сильная фрагментация и молодой возраст особи, но наблюдаемая морфология указывает на большую близость OR-1 к людям современного антропологического типа. Реконструируемая левая часть теменной ко сти сравнительно большая и тонкая, а височная кость имеет относительно современный вид. Эта особенность черепа в сочетании с его грацильностью и крупными размерами, архаичным видом зубов и неясной морфологией ушного лабиринта демонстрирует мозаичность морфологии, которая сходна с таковой у недавно обнаруженных остатков гоминина в Оасэ (Румыния)» [Гланц, Виола, Чикишева, 2004, с. 91–92]. В последующем, опираясь на результаты изучения верхнего зубного ряда OR-1, антропологи заключили, что эти образцы относятся к неандертальцам.
При решении вопроса о таксономической принадлежности останков из пещеры Оби-Рахмат необходимо учитывать технико-типологический комплекс каменной индустрии из слоя 16, в котором обнаружены OR-1. Важно отметить, что во всей стратиграфической последовательности этого местонахождения четко прослеживается направленная эволюция и преемственность (без каких-либо заметных перерывов) в индустрии: от самого нижнего до верхних слоев увеличиваются доли протопризматических, призматических, торцовых нуклеусов; ярко проявляются тенденции к возрастанию снизу вверх по разрезу (слои 21–7) индекса пластично сти и увеличению численности микропластин, а также к уменьшению общих размеров заготовок; изменяется соотношение типов орудий – верхнепалеолитических становится больше, чем среднепалеолитических; первичное расщепление характеризуется ростом количества пластинчатых заготовок и нуклеусов, отражающих верхнепалеолитические стратегии, частично с сохранением леваллуаз-ского расщепления.
Индустрия грота Оби-Рахмат позволяет проследить, как на основе финально-среднепалеолитической индустрии формируется верхнепалеолитическая. Этот этап предварительно датируется 60–50 тыс. л.н., а начальный верхний палеолит – 50– 40 тыс. л.н. Оби-рахматская индустрия ни в первичном расщеплении, ни по технико-типологическим характеристикам не имеет ничего общего с мустьер-ской индустрией неандертальцев. Наибольшее сходство она проявляет с денисовской среднепалеолитической индустрией [Деревянко, Шуньков, 2004; Деревянко, 2022; и др.]. Я считаю, что окаменелости OR-1 следует отне сти к H. s. denisovan , который сохранил некоторые морфологические признаки от общей с неандертальцами предковой формы – H. heidelbergensis [Деревянко, 2020].
В Денисовой пещере и в пещере Оби-Рахмат обитали представители одного таксона – H. s. denisovan . Во-первых, очень близка одонтологическая система обитателей этих пещер. Во-вторых, в культуросодержащих слоях этих пещер выявлены близкие по основным технико-типологическим показателям индустрии.
Бесспорные неандертальские антропологические останки обнаружены в гроте Тешик-Таш, который находится в горах Байсун-Тау, в 2,7 км от кишлака Мачай, в сае Заутолош-Дарья (Узбекистан). Грот расположен на высоте 6 м над тальвегом сая, 1872 м над ур. м. Его высота в предвходовой части 7 м, ширина 20, глубина 21 м. Грот открыт и исследовался в 1938–1939 гг. А.П. Окладниковым [1949].
Антропологические о станки подро стка из грота Тешик-Таш на основании морфологических и генетических свидетельств отнесены исследователями к неандертальцам, но их таксономический статус до настоящего времени остается дискуссионным.
Морфологические особенности неандертальского ребенка из грота Тешик-Таш рассматриваются во многих работах. До выхода в свет первого, подготовленного М.А. Гремяцким [1949], монографического описания морфологии этого индивида и после этого почти все антропологи, занимающиеся изучением неандертальской проблемы, высказывали свою точку зрения на особенности морфологии индивида, значение и место данной находки среди других антропологических останков этого таксона. Причем некоторые исследователи с появлением новых фактов меняли свою оценку значения скелета неандертальского ребенка из грота Тешик-Таш.
По мнению большинства исследователей, находка обладает смешанными неандертальскими и восточноазиатскими чертами [Дебец, 1948; Weidenreich, 1945, 1949; Howell, 1951; Trinkaus, 1983; Trinkaus, Howell, 1979; Гремяцкий, 1949; Thoma, 1973; Wolpoff, 1999; Алексеев, 2007; и др.]. У антропологов сложились разные точки зрения на наличие в морфологии этого черепа европейских или восточноазиатских признаков.
Я считаю, что неандертальцы, расселявшиеся на западе Центральной Азии, были мигрантами с Ближнего Востока: по своим морфологическим признакам они ближе к переднеазиатским неандертальцам, их индустрия имеет большое сходство с индустрией финального этапа среднего палеолита Леванта. Для подтверждения этого вывода важно заключение Ф. Вайденрайха об определенном сходстве окаменелости из грота Тешик-Таш с некоторыми черепами из пещеры Схул (особенно Схул 5). Он считал, что по морфологии череп из Тешик-Таша мог принадлежать одному из представителей развитых гоминидов, стоящих между классическими неандертальцами и человеком современного типа, наподобие палестинской популяции, населявшей горный массив Кармель, но его фронтальная часть и зубы имеют некоторые монголоидные черты [Weidenreich, 1949, p. 160].
А.П. Окладников охарактеризовал индустрию из грота Тешик-Таш как мустьерскую с леваллуаз-скими элементами. Й. Нишиаки и О. Арипджанов недавно исследовали часть коллекции этого ме сто- нахождения и пришли к выводу об использовании в первичном расщеплении леваллуазской технологии [Nishiaki, Aripjanov, 2020]. Ранее я так же имел возможность поработать с каменными изделиями из пещеры Тешик-Таш [Деревянко, 2011]. С моей точки зрения, первичное расщепление в ней производилось с использованием чаще всего радиальной техники скалывания заготовок и иногда подпризматической, в рамках которой подготовка ударной площадки и фронта скалывания осуществлялась без особой тщательности. Здесь не обнаружено ни одного хорошо оформленного леваллуазского нуклеуса.
В гроте представлено много пластин правильной в плане формы. Например, в первом культуросодержащем горизонте – 32 экз., а в пятом – 60 экз. Подпризматические нуклеусы, обнаруженные в первом горизонте, не предназначались для изготовления таких пластин: длина некоторых пластин до стигала 10 см, тогда как высота наиболее хорошо подготовленного ядрища для снятия пластинчатых отщепов составляла всего 4,3 см. Это позволяет предполагать, что залегавшие в гроте нуклеусы были сильно сработаны или же первичное расщепление производилось за пределами стоянки, у источников сырья.
В любом случае индустрию грота Тешик-Таш нельзя отнести к микокскому типу. Более того, в Центральной Азии пока не обнаружены стоянки с ми-кокской индустрией. Судя по гомогенному характеру технокомплекса из грота Тешик-Таш, все пять куль-туро содержащих слоев сформировались в течение непродолжительного времени, их следует датировать периодом 55–45 тыс. л.н. Таким образом, неандертальцы из грота Тешик-Таш и чагырские неандертальцы относились ориентировочно к одному хронологическому диапазону, но у них были разные технико-типологические комплексы каменных орудий. Следовательно, Центральная Азия не могла быть транзитной территорией для неандертальцев с микокской индустрией, мигрировавших из Европы в Сибирь.
Таким образом, в Центральной Азии удалось обнаружить пока только одну стоянку – Тешик-Таш – с мустьерской индустрией и останками неандертальца из популяций, которые мигрировали на эту территорию с Ближнего Востока через Иранское нагорье. Стоянок с окаменелостями чагырских неандертальцев и мустьерской сибирячихинской среднепалеолитической индустрией в Центральной Азии пока не найдено.
Особый интере с представляет обнаруженный в 2006 г. в ме стности Салхит в Монголии фрагмент черепа, находившийся, к сожалению, вне археологического контекста. Авторы самой первой публикации, посвященной данной находке, с учетом наличия у фрагмента черепа хорошо выраженных эректоид-ных признаков высказали предположение о его при- надлежности H. erectus [Цэвээндорж, Батболд, Амга-лантогс, 2006].
В мае 2006 г. в пади Салхит (сомон Норовлин Хэн-тэйского аймака) были проведены геоморфологическое и стратиграфическое исследования [Деревянко, Цэвээндорж, Гладышев и др., 2007]. В то время в данном районе вела добычу золота компания «Баян-Эр-дэс», сотрудники которой нашли череп и передали его в Институт археологии Монгольской Академии наук. До этого работы по открытой добыче золота проводились в районе на протяжении 5 лет, в результате значительная часть рыхлых отложений оказалась полностью уничтоженной вплоть до коры выветривания гранитного базиса. Исследуемый участок находится на восточных отрогах Хэнтэйского нагорья, которые представляют собой совокупность всхолмленных поверхностей, мелкосопочников, массивов низких гор, разделенных между собой областями денудации и плоскими впадинами с озерными котловинами.
В непосредственной близости от места обнаружения фрагмента черепа, на участках, не потревоженных золотодобытчиками, было сделано несколько разрезов. Наиболее информативным оказался разрез западного борта пади Салхит. Его длина составила 10 м. Рыхлые отложения удалось вскрыть на глубину 4,25 м, до коры выветривания, выше которой залегал горизонт песчано-дресвяно-щебенистых отложений. Их характеризует нестабильность, вызванная усилением как эндогенного, так и экзогенного морфогенеза. Причиной изменений, вероятно, были колебания климата в сторону потепления (каргинская эпоха позднего плейстоцена), это привело к росту увлажненности, а также обводненности данной территории и способствовало более интенсивному протеканию эрозионно-денудационных процессов, лежащих в основе накопления абсолютно несортированных обломочных осадков делювиально-пролювиального генезиса. Достаточное количество свободной воды привело к формированию на данном уровне аллювиально-пролювиального вложения, которо е представляло собой бывшее русло небольшого водотока, заполненное наклонно-слоистым песчаным материалом. Следующим горизонтом, перекрывающим кар-гинскую толщу, является слой 3, характеризующийся склоновым генезисом. Он формировался, видимо, в сартанское время, для которого были свойственны понижение общего температурного фона, недостаток количества свободно движущейся воды (неаквальное происхождение данных слоев) и прогрессирующая аридность. Вышележащий слой 2 делювиально-пролювиальный, голоценовый. С этим временем связано формирование венчающих разрезы почвенно-растительных горизонтов.
Суммируя данные, полученные при анализе стратиграфического разреза пади Салхит, можно сделать вы- вод, что нижний слой рыхлых отложений не древнее начала каргинской эпохи, т.е. 55–50 тыс. л.н. Следовательно, черепная крышка принадлежит человеку типа H. sapiens или же архантропу, который оказался здесь каким-то совсем фантастическим способом, потому что геоморфологическая ситуация в окрестностях пади Салхит исключает наличие каких-либо древних отложений, при разрушении которых череп мог путем переноса попасть на дно пади [Там же, с. 92–93].
Дальнейшие исследования подтвердили вывод, сделанный в процессе полевых работ 2006 г. Согласно первоначальной оценке, возраст черепа Салхит составлял ~23 тыс. лет, однако он оказался заниженным из-за плохой очистки образца, в настоящее время череп датируется 34 950–33 900 кал. л.н. [Devièse et al., 2019].
Фрагмент черепной крышки Салхит включает практически полную лобную кость, а также частично сохранившиеся теменные и носовые кости, которые имели хорошо выраженные архаичные признаки. На этом основании Д. Цэвээндорж и его соавторы выделили новый таксон – Mongolanthropus [Tsevendorj, Batbold, Amgalantugs, 2007]. Сравнение с помощью многомерного статистического анализа размеров данной находки с черепами разных видов гомининов выявило сходство черепа Салхит с останками неандертальцев, эректусов, а также азиатских архаичных H. sapiens [Kaifu, Fujita, 2012] и позволило исследователям отнести гоминина из Салхита к людям современного вида позднего плейстоцена. Еще раньше антропологи установили по некоторым параметрам родство этого индивида с неандертальцами и эректу-сами и сделали вывод о том, что в целом по физической морфологии это был человек современного типа с ярко выраженными эректоидными предковыми признаками [Coppens et al., 2008].
Исследование трех образцов биоматериала, взятых из черепа Салхит, показало, что его линия мтДНК отно сится к макрогаплогруппе N, которая вместе с гаплогруппой М принадлежит к базовым гапло-группами мтДНК, общим для всех неафриканских современных людей [Devièse et al., 2019]. Как отмечают специалисты, маловероятно, что митохондриальная линия Салхит, которая ответвляется от корня гапло-группы N, напрямую наследует любую современную человеческую мтДНК. Среди древних современных людей только мтДНК румынского образца из памятника Оасе 1, чей возраст составляет ~40 тыс. лет, выходит за пределы известных подлиний N или M; это указывает на существование большего разнообразия мтДНК среди ранних современных людей Евразии, чем среди более поздних и ныне существующих популяций [Ibid., p. 4].
В результате секвенирования ядерной ДНК из фрагмента черепа Салхит в геноме данного гоми- нина были выявлены 18 сегментов денисовского происхождения длиннее 0,2 нм; 20 таких же сегментов обнаружены в геноме гоминина из пещеры Тяньюань [Massilani et al., 2020]. Как считают исследователи, предки современных людей, обитавшие в Восточной Азии 40 тыс. л.н., встречались и скрещивались с де-нисовцами [Ibid., p. 582]. На основании этого вывода можно предположить, что ок. 40 тыс. л.н. люди современного типа встретились с денисовцами (Салхит) и в результате интрогрессии произошел генетический дрейф от коренного населения к мигрантам. Череп из Монголии по морфологии отличается от подобных находок из Китая.
Установлено, что ДНК окаменелости Салхит проявляет большое расхождение с ДНК антропологических находок из пещеры Тяньюань, поэтому монгольского гоминина можно считать наиболее вероятным представителем денисовского таксона или гибридом человека современного типа и денисовца [Деревянко, 2022].
Таким образом, имеющиеся в настоящее время антропологические и археологические материалы позволяют утверждать, что в конце среднего и в верхнем плейстоцене на территории Центральной Азии расселялись популяции H. s. denisovan с различными локальными вариантами денисовской среднепалеолитической индустрии и, возможно, на этой основе в некоторых регионах этой части континента конвер-гентно формировался верхний палеолит. Небольшие группы неандертальцев проникли на данную территорию с Ближнего Востока через Иранское нагорье. Ча-гырские неандертальцы двигались по другому маршруту из Восточной Европы на Алтай.
Наиболее вероятный маршрут европейских неандертальцев с микокской индустрией из Восточной Европы на Алтай пролегал через северо-восточную часть Русской равнины и северные предгорья Урала, где открыты стоянки позднего плейстоцена с мустьерской индустрией [Павлов, 2008; Serikov, Chlachula, 2014]. Среди них наибольший интерес представляет стоянка Гарчи I, расположенная в бассейне верхней Камы (59º04′ с.ш.; 56º07’ в.д.) [Павлов, 2008]. По данным OSL-датирования ее возраст ок. 100 тыс. лет, который, по моему мнению, слишком удревнен. Для каменной индустрии стоянки характерно преобладание изделий со следами двусторонней обработки, сплошной или частичной, плоско-выпуклой – бифасиальных ножей, а также угловатых и конвергентных скребел, остроконечников и листовидных бифасов. Аналогичные черты имеет небольшой, но выразительный комплекс местонахождения Пещерный Лог [Там же, с. 35]. Эти стоянки с микокской индустрией могут быть свидетельствами миграции европейских неандертальцев с запада на восток вплоть до Алтая.
Возможность расселения чагырских неандертальцев на сопредельных с Алтаем территориях Южной Сибири
Археологические материалы, относящиеся ко второй половине верхнего плейстоцена в Южной Сибири, не позволяют убедительно ответить на вопрос о возможности расселения на этой территории неандертальцев чагырской группы. Причинами этого являются малочисленность известных в Южной Сибири стоянок с длительной стратиграфической последовательностью и отсутствие их геохронологии.
На юго-востоке Алтай граничит с Тувой. С.Н. Астахов, один из известных исследователей древнекаменного века Сибири, отнес начало среднего палеолита в Туве к леваллуа-мустье или мустье и датировал этот этап первоначально периодом не позже каргинского времени, а точнее оптимумом внутри нижнезырянского (муруктинского) похолодания, т.е. до 80–75 тыс. л.н., а затем удревнил вплоть до начала казанцевского межледниковья (МИС 5е) [Астахов, 1986, 1993, 2008].
На ряде стоянок саглынской группы с финальной среднепалеолитической индустрией, выделенной С.Н. Астаховым, много верхнепалеолитических изделий, для изготовления которых использовались заготовки в виде пластин, что указывает на заметную роль пластинчатого раскалывания. Но, как отмечалось, из-за отсутствия стратифицированных стоянок невозможно сделать вывод о преемственности между средним и верхним палеолитом, равно как и об их хронологии. Исследователи палеолита Тувы относили среднепалеолитическую индустрию региона к мустье. Однако в Туве, несмотря на наличие в среднепалеолитической индустрии некоторых элементов, напоминающих изделия мустьерского типа, не обнаружены стоянки с сибирячихинской индустрией.
На территории Средней Сибири лучше всего изучен Куртакский археологический район [Дроздов, 1992; Дроздов и др., 2000, 2007]. К среднему палеолиту этого района можно отнести местонахождения Каменный Лог-1, -2. Нижний культуросодержащий слой этих стоянок с материалами, представляющими дисковидное расщепление, принадлежит финалу раннего палеолита. На пляжной поверхности в раскопах 2–4, расчистке и шурфе 12 кроме галечно-отщепной индустрии обнаружены каменные изделия, которые можно отнести к среднему палеолиту.
Наиболее древние артефакты найдены на поверхности и в размытой каменноложской почве (аналог казанцевской; МИС 5). Первичное расщепление представляют радиальные и леваллуазские нуклеусы, среди орудий наряду с чопперами, чоппингами, скреблами различной модификации фиксируются ле-валлуазские остроконечники с хорошо фасетирован-ной площадкой типа chapeau de gendarme. Сочетание орудий финального этапа раннего палеолита и среднего палеолита позволяет предполагать, что на этой территории одновременно расселялись поздние эрек-тусы и денисовцы со своей среднепалеолитической индустрией.
В гроте Двуглазка на территории Хакасии также обнаружены свидетельства леваллуазского расщепления – леваллуазские остроконечники. З.А. Абрамова [1981, 1985] отнесла индустрию из нижних культуросодержащих слоев 5–7 этой стоянки к мустье леваллу-азской фации. Радиоуглеродные даты, полученные для слоев 6 (39 900 ± 800 л.н.) и 7 (27 200 ± 800 л.н.), явно омоложены. Наиболее вероятный возраст нижних культуросодержащих слоев 6, 7 стоянки в гроте Двуглазка, с моей точки зрения, – 40–45 тыс. лет. Главное, что необходимо отметить: леваллуазское расщепление появляется в Средней Сибири, вероятно, в самом начале казанцевского потепления (МИС 5е). Леваллуаз-ские остроконечники с фасетированным основанием относятся к более позднему времени (МИС 5b, a); эта индустрия продолжает использоваться до заселения грота Двуглазка гомининами. Появление в Средней Сибири леваллуазского расщепления для получения леваллуазских о стрий может быть связано только с денисовцами, потому что чагырские неандертальцы изначально не применяли такую технику. Появление признаков использования леваллуазского расщепления обитателями пещеры Окладникова связано с контактами чагырцев и денисовцев 45–40 тыс. л.н. Такая ситуация не исключает возможности расселения в Хакасии небольшой по численности группы поздних ча-гырских неандертальцев.
Заключение
Чагырцы с микокской индустрией – самая восточная часть европейских неандертальцев, мигрировавших на Алтай. Эта популяция двигалась из Европы через ее восточную часть севернее Каспийского моря, Урал и далее в Западную Сибирь. Дивергенция, необходимость адаптации к новым экологическим условиям в зонах расселения создавали предпосылки для дальнейшей морфологической и генетической вариабельности, что и демонстрирует эта группа неандертальцев. Их антропологические останки найдены пока только в трех пещерах – Окладникова, Чагырской и Страшной. Мустьерская индустрия чагырских неандертальцев обнаружена на крайне ограниченной территории. Остается открытым вопрос о возможности их расселения на сопредельных территориях.