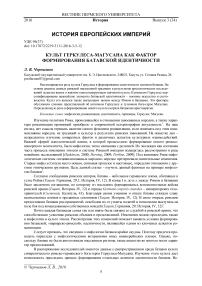Культ Геркулеса-Магусана как фактор формирования батавской идентичности
Автор: Чернышев Л.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История Европейских империй
Статья в выпуске: 3 (34), 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается роль культа Геркулеса в формировании идентичности племени батавов. На основе анализа данных римской письменной традиции и результатов археологических исследований делается вывод о важном консолидирующем значении культа. В римском Геркулесе персонифицированы важнейшие элементы батавской идентичности - военное искусство и скотоводство. Культ его являлся также связующим звеном между Римом и батавами. Эти факторы обусловили слияние представлений об античном Геркулесе и туземном боге-герое Магусане. Определяющую роль в формировании нового культа сыграла батавская аристократия.
Мифология, романизация, идентичность, германцы, геркулес, магусан
Короткий адрес: https://sciup.org/147203747
IDR: 147203747 | УДК: 94(37) | DOI: 10.17072/2219-3111-2016-3-5-12
Текст научной статьи Культ Геркулеса-Магусана как фактор формирования батавской идентичности
Изучение политики Рима, проводившейся в отношении завоеванных народов, а также характера романизации провинций приобрело в современной историографии актуальность1. На наш взгляд, нет смысла отрицать наличие самого феномена романизации, если понимать под этим взаимовлияние народов, их традиций и культур в результате римских завоеваний. На повестке дня – непредвзятое изучение конкретных фактов и различных аспектов культурных взаимодействий. Важной сферой идеологической жизни, в которой происходило формирование нового римско-имперского менталитета, была мифология, тесно связанная с религией. Их эволюция как составная часть процесса изменения этносов в системе Римской империи подверглась рассмотрению в ряде новейших исследований [ Huskinson , 2000; Herring , 2009; Perkins , 2009]. Под влиянием Рима мифологические системы «нецивилизованных народов» нередко претерпевали значительные изменения. Старые мифы уступали место новым, связывая прошлое и настоящее, определяя отношения с другими этническими группами. Цель данной статьи – изучить данный феномен на примере мифологии батавов2.
Согласно сообщениям римских авторов, батавы – небольшое германское племя, обитавшее в устье Рейна ( Тацит, Германия, 29,1; История, IV, 12). В конце I в. до н.э. между Римом и батавами было заключено соглашение, по которому из последних формировались вспомогательные войска римской армии ( Тацит, История, IV, 12) и отряды Germani corporis custodes – императорских телохранителей ( Светоний, Калигула, 43). Благодаря своим умениям и отваге батавы стяжали славу великолепных воинов и преданных союзников ( Тацит, История, IV, 12). В свою очередь римляне предоставили батавам ряд привилегий, освободив их от уплаты податей и позволилив выступать на поле боя под командованием собственных вождей ( Тацит , Германия, 29; История, IV, 12)3.
Почти каждая батавская семья так или иначе была связана со службой в римской армии, что способствовало усвоению римских обычаев и представлений. Изменения можно проследить также в мифологии и культе этноса. Рассмотрение этих изменений поможет выявить условия формирования батавской, «варварско-римской», идентичности, являвшейся одним из ключевых аспектов романизации.
Следует признать, что сведения о мифологии батавов крайне скудны. Поэтому придется проводить параллели с мифологическими воззрениями иных нижнерейнских племен. Однако, поскольку батавы не были автохтонным населением региона, такие аналогии во многом носят характер предположений.
В распоряжении исследователей имеются данные о распространенном среди батавов культе синкретического римско-германского бога-героя Геркулеса-Магусана. Изучение этого культа дает возможность проследить процесс формирования отдельных аспектов идентичности батавов. Ис-
точниками, из которых исследователи могут почерпнуть информацию о батавском культе Геркулеса, являются материалы археологических раскопок святилищ [ Bogaers , 1955; Roymans , Derks , 1994; Derks , 2002; Derks , Kerckhove , Hoff , 2008], ряд надписей4 и некоторые косвенные данные нарративных источников (прежде всего Тацита).
Мифология как элемент батавской идентичности исследовалась преимущественно немецкими и голландскими учеными. Долгое время культ Геркулеса-Магусана привлекал внимание главным образом в контексте общего изучения кельтской и германской мифологии [ Haug , 1912; Hei-chelheim , 1928; Drexel , 1923]. После обнаружения в годы Второй мировой войны храма в Эльсте (Нидерланды) интерес к Магусану значительно активизировался [ Bogaers , 1955; Horn , 1970; Wagner , 1977]. Однако лишь в начале 1990-х гг., после раскопок храма Геркулеса-Магусана в Эмпеле (Нидерланды), в распоряжении ученых оказался богатейший археологический материал, позволивший значительно расширить представления исследователей о культе этого божества.
Раскопки храма совпали по времени с ростом интереса к теме идентичности как объекту изучения истории римских провинций. Первой работой, в которой идентичность батавов рассматривалась в связи с культом Геркулеса-Магусана, стала монография Т. Деркса, посвященная анализу культов доримской и римской Галлии. Ученый указал на животноводческую специфику хозяйственной жизни батавов и пастушескую функцию их главного божества – Магусана [ Derks , 1998, p.98–100, 113–115]. Небольшой раздел в своей обширной монографии о формировании батавской идентичности посвящает культу Геркулеса-Магусана Н. Ройманс [ Roymans , 2004, p.235–2505]. Нидерландский исследователь подробно рассматривает военную функцию бога-героя и связывает его популярность с милитаристской окрашенностью батавского самовосприятия. Фактически Т. Деркс и Н. Ройманс объясняют популярность Геркулеса-Магусана – главного божества батавов – двумя основными функциями племени в структуре римского государства. Скотоводство и военное ремесло – ключевые компоненты идентичности батавов, их важнейшие занятия, персонификацией которых выступал Магусан, отождествлявшийся с римским Геркулесом. Одновременно этот культ являлся соединительным звеном между римской цивилизацией и германским племенем. А батавские элиты использовали культ для укрепления своего положения [ Roymans , 2004, p.235].
Исследователь из США К. Мата указывает на важную роль римлян в процессе становления культа Геркулеса [ Mata , 2013]. Центры культа – святилища и храмы – ученый считает опорами римской власти. Он также предполагает связь Геркулеса-Магусана с культом императора [ Mata , 2013, p.142]. В насаждении культа Геркулеса К. Мата видит стремление римлян легитимизироваться в стратегически важном батавском регионе [ Mata , 2013, p.147].
Невыясненным остается целый ряд вопросов: Насколько широко культ Геркулеса-Магусана был распространен среди батавов? Какова причина слияния батавского и римского мифов? Cui prodest? – какая социальная группа была заинтересована в создании нового культа? Встретил ли культ Геркулеса сопротивление? На наш взгляд, можно сделать некоторые предположения на этот счет и расширить представление о роли культа Геркулеса в становлении батавской идентичности.
Мифы являлись значимым элементом складывания идентичностей в доримском кельтогерманском мире [ Gibson , 2013]. Процесс романизации «варварской периферии», значительно ускорившийся после военных кампаний Цезаря, нередко приводил к включению элементов римской мифологии в местные системы верований. Одним из наиболее распространенных среди «варваров» античных мифов была легенда о Геракле-Геркулесе. Согласно Тациту, в среде германцев бытовало мнение о том, что Геркулес во время странствий посетил Германию, а к самому античному герою они относились с большим почтением ( Тацит, Германия, 3). Голландский археолог Т. Деркс в одной из своих статей указал на особое значение культа Геркулеса для прирейнских германцев [ Derks , 1998, p.88–94]. Тем не менее сегодня нельзя точно ответить на вопросы: Существовал ли культ Магусана в дельте Рейна и Мааса до прихода батавов и римлян? Какое место занимал Магусан в мифологии нижнерейнских племен? С уверенностью можно говорить о том, что культ был распространен в I – III вв. в провинциях Белгика и Нижняя Германия, особенно в районе расселения батавов [ Derks , 1998, p.112; Moitrieux , 2002, p.181]. Однако не исключено, что поклонялись Магусану в Германии ещё в более раннюю эпоху, а сам культ продолжал существовать вплоть до прихода христианства.
В батавском регионе известны три святилища, в которых отправлялся культ Геркулеса. Во-первых, это храм в Эмпеле6. Исследования показали, что святилище на месте будущего храма, на южном берегу реки Маас, было основано около 120 г. до н.э. [Roymans, Derks, 1990]. Строительство галло-римского храма датируется первой половиной I в. Из найденных там предметов особое значение имеют большое количество вооружения и монет, а также восьмисантиметровая бронзовая фигурка Геркулеса, датируемая I в. Во-вторых, храм в Эльсте7. Святилище существовало еще до батавского переселения (середина I в. до н.э.) и располагалось близ современного Неймегена8. Около 50 г. на его месте был основан каменный храм, а полвека спустя он был значительно перестроен. Связь этого святилища с культом Геркулеса подтверждают находки фрагментов бронзовой статуэтки и алтаря, посвященного Геркулесу. В-третьих, храм в Кессель-Литт, на южном берегу реки Маас, в 10 км от святилища в Эмпеле9. Здесь были обнаружены комплекс предметов культа периода позднего Латена и римское вооружение, а также керамика и кости людей и животных10. Тот факт, что данные святилища перестраивались и укреплялись (Эльст), восстанавливались после страшных пожаров (Эмпель на рубеже II и III вв.) и продолжали функционировать вплоть до середины III в. [Mata, 2013, p.140], говорит о важности культа Геркулеса и самих святилищ как центров культурной и политической жизни.
Попытки этимологической интерпретации имени «Магусан» приводят к противоречивым выводам. Одни исследователи возводят его к кельтским божествам [ Gutenbrunner , 1936, S.60–61, 220–221; Much , Lange , 1967, S.175–176], другие – к германским [ Wagner , 1977; Reichert , 1987, S.484–485]. В свою очередь, голландский ученый Л. Турианс считает, что, будучи первоначально кельтским божеством, Магусан «германизировался» в середине I в. до н.э. [ Toorians , 2003, S.22]. Последняя версия представляется нам наиболее правдоподобной. Данные археологии говорят о том, что территории, занятые позднее батавами, входили в состав земель, которыми прежде владело племя эбуронов [ Roymans , 2004, p.26–28]. Его этническая принадлежность не совсем ясна. Возможно, эбуроны были кельтами, возможно – германцами, испытывавшими значительное кельтское влияние [ Toorians , 2000]. Вероятно, Магусан был одним из божеств эбуронов. Батавы, будучи полиэтнической общностью – результатом взаимной ассимиляции хаттов и эбуронов, вполне могли наследовать мифологию и культ своих территориальных предшественников. По крайней мере, это объясняет непрерывное – от добатавского периода до времени батавов включительно – функционирование святилищ11.
Недавние исследования в батавском регионе святилищ, посвященных Геркулесу-Магусану, обогатили наши знания о культе этого божества. Во-первых, определилась его военная специфика, о чем свидетельствует обилие ритуального оружия в местах культа. Изображения Магусана полностью соответствуют представлениям о римском Геркулесе, в том числе легендам о его деяниях. На бронзовой статуэтке из Эмпеля (I в.) он изображен в львиной шкуре на плечах, держащим дубину (ныне утеряна) в левой руке и чашу в правой. На алтарном камне из Бонна он также представлен с дубиной и шкурой льва попирающим Цербера. Статуя из Ксантена изображает Геркулеса-Магусана в классической позе, держащим дубину и яблоки Гесперид в левой руке. Все это дает основания предположить, что, хотя Геркулес-Магусан и носил характер местного божества (об этом свидетельствует его имя12), воспринимался он однозначно в образе римского Геркулеса.
Каким же образом произошло слияние «варварского» и римского героев? Вероятно, главную роль в этом сыграла батавская элита. В юности дети аристократических семейств, будучи «заложниками», могли получить римское образование13, что впоследствии дало им возможность интегрировать античный миф в собственную мифологическую систему [ Roymans , 2004, p.243–244]. Так, на алтарном камне первой половины I в. из Сент-Михельгестеля зафиксировано посвящение Геркуле-су-Магусану от магистрата батавской общины Флава14. Известно, что Геракл-Геркулес часто выступал покровителем правящих династий в античном мире. Не исключено, что подобный шаг со стороны батавской элиты имел целью легитимизировать свою власть в глазах Рима и соседей-германцев. Однако это фактор не может считаться единственным при объяснении популярности Геркулеса на территориях Нижнего Рейна.
Несмотря на то что именно элиты, вероятно, сделали первый шаг в этом направлении, новый миф должен был быть принят широкими массами. Поскольку уже в I в. культ Геркулеса получает широкое распространение15, можно предположить, что сходство античного Геркулеса и германского Магусана было очевидно для батавского общества. Поэтому культ приобрел широкую популярность достаточно быстро, в течение одного-двух поколений. Вероятнее всего батавы-воины познакомились с культом Геркулеса во времена военных кампаний Цезаря16. Также нужно учитывать и влияние расквартированных на Нижнем Рейне римских легионов и ветеранов, для которых культ Геркулеса имел большое значение [Колобов, 2000]. Скорее всего нужно иметь в виду целый комплекс факторов, сделавший культ Геркулеса значимым элементом мифологической картины мира батавского общества.
Вероятно, в римском Геркулесе персонифицированы идеалы и ценности, особенно привлекательные для племен Нижнего Рейна и соответствовавшие местному божеству или герою Магусану. Во-первых, батавам должны были импонировать мужество, сила и военное искусство античного героя. В греко-римском мире Геракл-Геркулес, носивший эпитеты «Победитель» ( Hercules Victor ) и «Непобедимый» ( Hercules Invictus ), был символом смелости и силы. Тацит сообщает, что подвиги Геракла служили примером для германских воинов ( Тацит, Германия, 3). Так, большая часть посвятительных надписей Геркулесу-Магусану происходит из среды солдат и ветеранов [ Kauffmann , 1891, S. 559–560]. Широкое распространение получила практика сдачи оружия, щитов и доспехов в святилище в Эмпеле17. Во-вторых, популярность Геркулеса может быть связана с его функцией покровителя пастухов и защитника скота, что было также немаловажно для батавов, в хозяйстве которых разведение крупного рогатого скота и лошадей играло важную роль [ Буданова , Горский , Ермолова , 2011, c.13].
В-третьих, возникло представление о Геркулесе как божестве-посреднике между римлянами и германцами. Такое представление основано на роли Геракла-Геркулеса как первого исследователя германской границы и мифического предка варварских народов. Это было актуально для германских элит, поскольку германцы, в том числе батавы, продолжали восприниматься римлянами как варвары. И в этом отношении культ Геракла являлся очень важным элементов этнической и культурной самоидентификации. С одной стороны, батавы выступали в качестве полноценного партнера Рима, поставщика в римскую армию элитных войск и императорских телохранителей, что, несомненно, возвышало их в собственных глазах. С другой стороны, они по-прежнему оставались варварами в глазах римлян. Повествование Тацита о восстании батавов под предводительством Юлия Цивилиса показывает, насколько глубоко стереотип варвара-германца был укоренен в сознании римлян ( Тацит, История, IV, 18; IV, 73). Стремление преодолеть подобную дихотомию было, вероятно, для батавов одной из важнейших «идеологических» задач. Батавский культ Геркулеса также был попыткой интеграции с Римом и не должен рассматриваться отдельно от политических отношений с Римом в то время.
В античном обществе культовые центры, будучи местами проведения общественных празднеств и обрядов, выступали в качестве инструмента формирования культурно-религиозного сообщества. Значение святилищ как места, где возникала коллективная идентичность, наглядно показано Тацитом на примере германского племени свевов ( Тацит, Германия, 39). Как уже отмечалось, культ Геркулеса сыграл важную роль в формировании батавского мировоззрения. Поэтому, вероятно, храмы в Эмпеле, Эльсте и Кессель-Литт были теми местами, где складывались этническая мифография и коллективная идентичность батавов.
Недавние археологические исследования в святилищах Эмпеля и Эльста указывают на распространение практики ритуального пиршества [ Roymans , 2009, p.232]. Среди обилия керамики в Эмпеле преобладает посуда, так или иначе связанная с приготовлением и потреблением еды и напитков во время религиозных празднеств. В большом количестве обнаружены кости крупного рогатого скота. Очевидно, что подобные ритуальные пиршества в местах культа являлись важным средством социального взаимодействия в батавском обществе. Раскопки в Эмпеле предоставили в распоряжение исследователей большую коллекцию оружия и конной упряжи. Предметов, которые могли бы принадлежать женщинам или детям, не было обнаружено. Т. Деркс интерпретирует эти находки как переданное в святилища личное снаряжение воинов, окончивших военную службу [ Derks , 1998, p.229–230].
Культ Геркулеса-Магусана мог быть также связан с обрядом инициации юношей, становления их полноправными членами общины. Тацит рассказывает о подобных обрядах, бытовавших среди германцев ( Тацит, Германия, 13). Подтверждением этого может служить алтарный камень с посвятительной надписью Геркулесу, где наряду с семейной парой упоминаются их дети (CIL XIII 8705).
Как видно из сказанного, культ Геркулеса, основанный на доримском культе Магусана, играл у батавов важную консолидирующую роль. Персонифицирующий важнейшие качества воинствен- ных батавов Геркулес воспринимался в то же время как элемент римского мира. Не следует забывать, что батавы не были автохтонным населением региона и культурно-политическая связь с Римом, из рук которого они получили земли для поселения, была для них не менее важна, чем культурно-этническая связь с иными германцами. Своеобразная «двойная идентичность»18, когда бата-вы, не игнорируя германских корней, стремились всячески подчеркнуть свое привилегированное положение «давних союзников» Рима, была характерна прежде всего для усиливающейся аристократии. Тем не менее подобные взгляды должны были укорениться в массах. И в этом смысле новый культ, объединявший местный и римский элементы, должен был иметь первостепенное значение. Тот факт, что большое количество батавов служили в римской армии и были хорошо знакомы с культом Геркулеса, упрощал указанный процесс.
Разумеется, Рим был силой, поддерживавшей подобные устремления батавских элит. Все же некоторые факты позволяют усомниться в том, что Геркулес стал органичной частью мифологической системы батавов. Известно, что в ходе восстания против Рима 69–70 гг. храм в Эльсте сильно пострадал, а в Эмпеле и Кесселе шли упорные сражения [ Mata , 2013, p.140]. Не исключено, что часть батавов все еще воспринимали культ Геркулеса как нечто чужеродное, символизирующее Рим, отношение к которому оставалось неоднозначным.
Список литературы Культ Геркулеса-Магусана как фактор формирования батавской идентичности
- Барышников А.Е. Римская Британия и проблема романизации: кризис традиционной концепции и дискуссия о новых подходах в современном английском антиковедении//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 6
- Барышников А.Е. Империя наносит ответный удар? «Археологические диалоги» и очередной виток дискуссии о романизации//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 1
- Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Великое переселение народов: этнополитические и социальные аспекты. СПб., 2011
- Колобов А.В. Геркулес и римская армия ранней империи (на материале западной части Балкано-Дунайского региона)//Проблемы истории, филолологии, культуры. 2000. № 9
- Bogaers J.E. De Gallo-Romeinse tercels te Elst in de Over-Betuwe. Den Haag, 1955
- Derks T. The perception of the Roman pantheon by a native elite, the example of votive inscriptions from Lower Germany//Images of the Past, Studies on Ancient Societies in Northwestern Europe. Studies in preen protohistorie/N. Roymans & F. Theuws (eds.). Amsterdam, 1991.
- Derks T., Roymans N. Der Tempel von Empel. Ein Hercules-Heiligtum im Batavergebiet//Archaologisches Korrespondenzblatt. 1993. Bd. 23.
- Derks T. Gods, Temples, and Ritual Practices: The Transformation of Religious Ideas and Values in Roman Gaul. Amsterdam, 1998.
- Derks Т. De tempels van Elst (Gld). Nieuw archeologisch onderzoek rond de N.H. kerk. Amsterdam, 2002.
- Derks T., Kerckhove J. van, Hoff P. (eds.). Nieuw archeologisch onderzoek rond de Grote Kerk van Elst, gemeente Overbetuwe (2002-2003)//Zuidnederlandse Archeologische Rapporten. 2008. Bd. 31.
- Drexel F. Die Gotterverehrung im romischen Germanien. Frankfurt, 1923
- Gibson M. Mysticism, Myth and Celtic Identity. London, 2013
- Gutenbrunner S. Germanische Gotternamen der antiken Inschriften. Halle, 1936
- Haug H. Hercules//RE. 1912. Bd. 8 (15)
- Heichelheim F. Magusanus//RE. 1928. Bd. 14 (27)
- Herring E. Ethnicity and Culture//A Companion to Ancient History/A. Erskine (ed.). Malden; Oxford; Chichester, 2009
- Horn H. G. Eine Weihung fur Hercules Magusanus aus Bonn//Bonner Jahrbucher. 1970. Bd. 170.
- Kauffmann F. Mythologische zeugnisse aus romischen inschriften//Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. 1891. Bd. 10
- Mata K. Colonial entanglements and cultic heterogeneity on Rome's Germanic frontier//Ritual failure. Archaeological perspectives/V.G. Koutrafouri & J. Sanders (eds.). Leiden, 2013
- Moitrieux G. Hercules in Gallia. Recherches sur la personnalite et le culte d'Hercule en Gaule. Paris, 2002
- Much R., Lange W. Die Germania des Tacitus. Heidelberg, 1967
- Nicolay J. Armed Batavians: use and significance of weaponry and horse gear from non-military contexts in the Rhine Delta (50 BC to AD 450). Amsterdam, 2007
- Perkins J. Roman Imperial Identity in the Early Christian Era. London; New York, 2009.
- Reichert H. Lexikon der altgermanischen Namen. S. l. 1987. Bd. I (1)
- Roymans N., Berks T. Het heiligdom te Empel. Algemene beschouwingen//De tempel van Empel, een Hercules-heiligdom in het woongebied van de Bataven/N. Roymans & T. Derks (eds.). Hertogenbosch, 1994
- Roymans N., Berks T. Ein keltisch-romischer Kultbezirk bei Empel (Niederlande)//Archaologisches Korrespondenzblatt. 1990. Bd. 20
- Roymans N. Ethnic identity and imperial power. The Batavians in the early Roman Empire. Amsterdam, 2004
- Roymans N., Aarts J. Coins, soldiers and the Batavian Hercules Cult. Coin deposition at the sanctuary of Empel in the Lower Rhine region//Iron Age coinage ritual practices/C. Haselgrove, D. Wigg (eds.). Mainz, 2005
- Roymans N. Hercules and the construction of a Batavian identity in the context of the Roman Empire//Ethnic constructs in antiquity. The role of power and tradition. Amsterdam, 2009
- Slofstra J. Batavians and Romans on the Lower Rhine. The romanisation of a frontier area//Archaeological Dialogues. 2002. Bd. 9
- Toorians L. Keltisch en Germaans in de Nederlanden. Taal in Nederland en Belgie gedurende de Late IJzertijd en de Romeinse periode. Brussel, 2000
- Toorians L. Magusanus and the «Old Lad»: A Case of Germanized Celtic//North-Western European Language Evolution. 2003. Vol. 42
- Wagner N. Hercules Magusanus//Bonner Jahrbucher. 1977. Bd. 177
- Huskinson J. (ed.) Experiencing Rome: Culture, Identity and Power in the Roman Empire. London, 2000