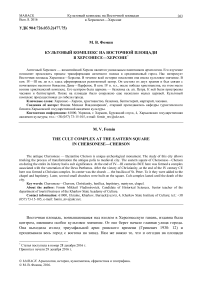Культовый комплекс на восточной площади в Херсонесе-Херсоне
Автор: Фомин М.В.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Христианская археология
Статья в выпуске: 8, 2016 года.
Бесплатный доступ
Античный Херсонес - византийский Херсон является уникальным памятником археологии. Его изучение позволяет проследить процесс трансформации античного полиса в средневековый город. Нас интересует Восточная площадь Херсонеса-Херсона. В течение всей истории поселения она имела культовое значение. В кон. IV-III вв. до н.э. здесь сформировался религиозный центр. Он состоял из двух храмов и был связан с почитанием местного божества Девы-Парфенос. В кон. IV в. н.э., после победы христианства, на этом месте возник христианский комплекс. Его центром была церковь - базилика св. ап. Петра. К ней были пристроены часовня и баптистерий. Позже на площади было сооружено еще несколько малых церквей. Культовый комплекс просуществовал до гибели города.
Херсонес-херсон, христианство, базилика, баптистерий, мартирий, часовня
Короткий адрес: https://sciup.org/14118131
IDR: 14118131 | УДК: 904:726.033.2(477.75) | DOI: 10.5281/zenodo.556166
Текст научной статьи Культовый комплекс на восточной площади в Херсонесе-Херсоне
Восточная площадь, возвышающаяся над входом в Херсонесскую гавань, издавна была центром, имевшим особое культовое значение. От нее берет начало главная улица города. Она выходила из-под триумфальной арки римского времени (Гриневич 1930: 12) и пронизывала весь город с востока на запад. Нам же важно то, что и сегодня на площади
Вып. 8. 2016
просматриваются остатки Восточной базилики, являющейся объектом нашего изучения (рис. 1).
Памятник, известный как Восточная базилика1 — один из трех базиликальных христианских комплексов византийского Херсона. Помимо церкви—базилики к нему относят крестообразный мартирий и баптистерий, а также пристроенную к нему с южной стороны часовню или небольшую церковь (рис. 2).
Впервые восточный мыс Херсонесского городища был исследован в 1876—1878 гг. экспедицией ООИД. Во время раскопок культурный слой на площади был удален до скалы. К сожалению, должной фиксации материалов не производилось. В результате на сегодняшний день об открытых здесь памятниках говорить очень сложно.
Изучение Восточной базилики, площади и прилегающих кварталов производилось в 1908 г. Р. Х. Лепером. К. Э. Гриневич обобщил материалы раскопок памятника и его окрестностей (Гриневич 1930: 5—21). Исследование окрестностей Восточной базилики происходило под руководством М. И. Золотарева в 1975—1976 гг. (Золотарев, Буйских 1994: 78—102).
Помимо проблем с фиксацией археологического материала в существенной мере исследование комплекса затруднено разрушением береговой линии. Исследования В. В. Лебединского показали, что в среднем обрушение берега под воздействием моря в районе Херсонеса приводит к утрате до 2,5 м. за столетие (ivran.ru: 1). С учетом того, что Восточный мыс не подвергался прямому воздействию волн, разрушение здесь может быть меньше. Однако помимо естественных причин существуют и антропогенные факторы. В результате оказалась утрачена часть апсиды базилики, фактически исчез баптистерий, а от крестообразного мартирия почти нечего не осталось.
Комплекс Восточной базилики (рис. 3) неоднократно становился объектом внимания со стороны ученых. К числу первых авторов, обративших на него внимание, стоит отнести Д. В. Айналова (Айналов 1905). Значительное внимание базилике уделили А. Л. Якобсон (Якобсон 1959: 165—168, рис. 72—74), А. И. Романчук (Романчук 2000: 226—227) и С. Б. Сорочан (Сорочан 2001: 37—38; Сорочан 2005: 875—886; Сорочан 2006: 223—230). Опираясь на трактовки сохранившихся архитектурных остатков, Ю. Г. Лосицкий предпринял попытку графической реконструкции памятника (Лосицкий 1988: 27—36; Лосицкий 1992: 83—98). Но неточности, допущенные первооткрывателями при археологических изысканиях, привели к значительным проблемам в датировке памятника, а также в интерпретации ряда элементов комплекса.
Попытаемся уточнить представления об этом памятнике. Полагаем, что начало истории формирования комплекса относиться еще к античному времени, когда на территории восточной площади функционировал эллинистический культовый центр.
Во время исследования восточной площади М. И. Золотаревым были удалены остатки средневековых построек («Часовня 17»), а сама площадь зачищена до скалы. В результате был открыт стилобат эллинистической постройки и подрубы в скале, которые остались от несохранившихся кладок античного времени. В результате были зафиксированы следы двух построек. Первая ориентирована фасадом на восток, а вторая — на юг (Золотарев, Буйских 1994: 82—83).
За время археологических исследований в северо-восточном районе Херсонеса было обнаружено значительное количество фрагментов архитектурных деталей построек
Вып. 8. 2016
Культовый комплекс на Восточной площади в Херсонесе—Херсоне ионического и дорического ордеров, относящихся к эллинистическому периоду истории города.
На основании анализа результатов исследования Восточной площади, с учетом коллекции находок предшествовавшего времени М. И. Золатарев и А. В. Буйских предприняли попытку реконструкции культового комплекса эллинистического времени, который, по их мнению, сформировался к кон. IV — нач. III вв. до н.э. (Золотарев, Буйских 1994: 82—83). Храм с дорическим ордером был ориентирован с востока на запад и предположительно был посвящен женскому божеству (рис. 4). Речь может идти об Афине, Артемиде или ее местной ипостаси — главном божестве пантеона Херсонеса — богине Деве—Партенос (Золотарев 1985: 266—276; Мещеряков 1980: 8). Дополнительным аргументом в пользу того, что постройки, связанные с культом Девы, возводились в дорическом ордере, является известная капитель с посвящением Деве (IOSPE I2 407). Профиль капители полностью не сохранился, но по форме фрагмента ее можно датировать не позднее трет. четв. IV в. до н.э. (Золотарев, Буйских 1994: 82—85).
Воздвигнутый позднее храм ионического ордера (рис. 5) был гораздо скромнее по размерам. Он был ориентирован с севера на юг. Напротив храма располагался монументальный алтарь, который являлся логическим центром площади.
По мнению М. И. Золатарева и А. В. Буйских, в западной части площади на постаменте возвышалась статуя, обращенная к морю. Она могла быть посвящена Афине (Золотарев, Буйских 1994: 84). Перед статуей располагался алтарь, облицованный прямоугольными плитами с изображениями рельефных щитов. Здесь же стояла небольшая вотивная колонна, посвященная Деве—Партенос (Золотарев, Буйских 1994: 85).
Таким образом, есть все основания констатировать, что восточная площадь была центром античного культового комплекса, связанного с почитанием Девы—Партенос — покровительницы городской общин. Он известен по письменным источникам как Парфенон (рис. 6). О культе Девы сообщают эпиграфические и нумизматические памятники, а так же Страбон и Помпоний Мела. Агиографические тексты Житий епископов херсонских, не вдаваясь в описание, так же рассказывают об античном храме: «... был же в Херсоне храм, называемый храмом идола Парфения ...» (Могарычев и др 2012: 41—42), «... была же в Корсуне базилика идола, именуемого Парфения ...» (Могарычев и др. 2012: 89—91).
В кон. IV в. античные культовые сооружения были разобраны, а на площади возведена христианская церковь. Этому предшествовал конфликт между язычниками, иудеями и христианами, описанный в текстах Житий епископов херсонских2.
Противостояние было вполне закономерным и продолжалось с нач. IV в. Для христиан оно было трагичным. В городе было убито четыре епископа. Были и другие мученики, имена которых не сохранились за исключением муч. Анастасии (Фомин 2012: 69—77; Фомин 2015: 225—232). Письменные источники упоминают о топониме «святые могилы», который относился к кладбищу — некрополю в Карантинной балке. Возможно, он был связан с местом, где были погребены местные христиане-мученики. Именно здесь была построена одна из самых первых церквей (Фомин 2004: 74—75; Фомни, Шевцова 2013: 22—33) и найден памятник — крест с посвящением св. Анастасии.
Первая победа была достигнута при еп. Эферии. В результате христиане получили официальный статус и защиту от государства, была построена первая церковь. «Рукопись 296», «Синаксарь Василия II» и «Синаксарь Константинопольской церкви» сохранили сведения о том, что при поддержке имперской администрации из города были высланы
Вып. 8. 2016
«идолопоклонники» (Могарычев и др. 2012). Это произошло в 380-х гг., когда Херсонесскую кафедру возглавлял еп. Эферий. После его смерти в город сразу был направлен еп. Капитон. Тексты содержат сведения, что епископа сопровождало 500 воинов.
Традиционно считается, что отряд был послан для помощи епископу. Но существует и другая точка зрения. Скорее всего, епископ воспользовался первым попутным транспортом. Известно, что еп. Эферий умер на о. Березань3, причем зимой. Вероятно, что в этот же год, зная о конфликте, с началом судоходства в город Херсонес поспешил еп. Капитон. Возможно, что самым первым был военный транспорт, который перевозил отряд для усиления местного гарнизона.
В кон. IV в. в степях Причерноморья появляются гунны. По мнению О. В. Вуса, именно с этой опасностью были связаны меры по усилению обороноспособности города и переброска дополнительных сил (Вус 2010: 64). С гуннским нашествием связывают гибель таких центров как Ольвия и Тира.
Модернизация оборонительных сооружений Херсонеса в кон. IV в. нашла свое отражение и в эпиграфических памятниках, найденных на территории городища. В частности об этом свидетельствует стела с упоминанием императоров Валента (364—378), Валентиниана I (364—375) и Грациана (375—383), а также их современника Домиция Модеста — префекта претория префектуры Восток и командира отряда балистариев (Вус 2010: 64; Зубарь 2004: 197—198, 205; Соломоник 1990: 74). О значительной помощи городу свидетельствует и значительное количество монет этого периода, найденных в Херсонесе4 (Вус 2010: 65; Серов 2004: 39—40). Усиление военного присутствия в Крыму подтверждает еще ряд находок. К ним можно отнести надписи в честь императоров Аркадия (383—408) и Гонория (395—423) (Виноградов 2010: 107—111), а также крест, найденный на Южном берегу Крыма в 2005 г (Вус 2010: 66; icon-art.info: 1).
Вероятно, именно с целью усиления гарнизона прибыл в город отряд Феоны. Источник говорит и о трибуне Флавии Вите, известном по эпиграфическим памятникам (Виноградов 2010: 105—106). Среди прибывшего контингента были «механики». Скорее всего, речь идет о военных инженерах, которые должны были организовать работы на укреплениях города (Виноградов 2010: 103—104). В эпиграфических памятниках идет речь о строительстве стены. Текст Жития так же упоминает о ее возведении. Отряд Феоны занял стены, с внешней стороны которых собрались язычники. А. Ю. Виноградов поднял вопрос, о возможном разрушение стены в результате конфликта (Виноградов 2010: 104). Возможно, что противостояние между язычниками, высланными из города по инициативе еп. Эферия и христианами дошло до вооруженного столкновения. Воспользовавшись ослаблением христиан в связи со смерть Эферия, язычники могли попытаться взять реванш.
Вып. 8. 2016
Культовый комплекс на Восточной площади в Херсонесе—Херсоне
По мнению ряда авторов, в состав гарнизона города помимо имперских войск входило воинское формирование, набранное из местных жителей (Фомин 2012b: 104—105). Так что конфликт мог перерасти в вооруженное восстание. Если принимать во внимание то, что часть горожан остались язычниками, такое противостояние могло иметь последствия для ситуации в регионе.
«Синаксарь Василия II», «Синаксарь Константинопольской церкви» (Могарычев и др. 2012: 41—50) упоминают, что это произошло в правление Феодосия I. А. Ю. Виноградов относит эти события ко времени незадолго до мая 392 г (Виноградов 2010: 106).
Св. Капитон, прибыв в город, смог добиться примирения или перемирия между враждующими группировками христиан и « эллинствующих», « бывших вне городских стен» и которых « не впускали в город». В результате увещеваний епископа « обе стороны успокоились; после этого и неверным позволено было войти в город и вместе с другими слушать учение предстоятеля» (Могарычев и др. 2012: 93). Далее, « он убеждал приверженцев эллинов, собравшихся у стены города, толпу нелегко исчислимую, послушаться и просить принять его веру. И случились обоюдные прения по поводу религии каждой из сторон» (Могарычев и др. 2012: 35).
О диспуте между язычниками с одной стороны и св. Капитоном с другой упоминают все варианты агиографического источника. Епископу предложили продемонстрировать «силу Бога»: « Если тебя, вошедшего в одну из них (печей — М. Ф. ), не сожжет огонь, то мы уверуем в проповедуемого тобою Бога » (Могарычев и др. 2012: 93). Язычники обязались креститься, если епископ войдет в печь для обжига извести и пробудет там условленное время. Но и епископ потребовал в ответ гарантий: «А откуда у меня будет уверенность, что вы уверуете, если сие совершится? ... Передайте ваших детей воинам с тем, чтобы они предали их в печи, если вы не уверуете, когда сие будет совершено мною во имя Христово » (Могарычев и др. 2012: 93). Епископ выполнил условие, « сотворив молитву, по возглашении диаконом “вонмем ”, тотчас вступил в печь, оградив себя оружием креста, и пробыл в ней довольное время, молясь и шевеля устами, о чудо! Затем, вложив в лоно уголья, он вышел невредимым силою Духа » (Могарычев и др. 2012: 93). Пылкая проповедь святого и чудо, свершенное по его молитве, привели к крещению горожан и возведению на месте языческого комплекса церкви в честь св. ап. Петра.
Но просто так разрушить существовавший в городе античный храм св. еп. Капитон не мог. Синаксарь Константинопольской церкви говорит, что иудеи требовали, « чтобы он не смел разрушать храм идолов ...» (Могарычев и др. 2012: 44). И вопрос стоит не только в сопротивление горожан. В Империи был принят ряд законов, охранявших «античное культурное наследие». Один из них, принятый в 382 г., провозглашал: « Властью государственного совета постановляем: пусть будет постоянно открыт храм, который и сейчас, и прежде является местом многолюдных народных собраний, и где, как говорят, выставлены изображения богов, кои следует ценить более за их художественную ценность, чем за их святость ». Позднее ряд актов, составленных в 399 г., призывали « оберегать убранство общественных зданий » (Ведешкин 2013: 41). Фактически стоит вопрос о том, что инициаторами разрушения храмового комплекса должны были стать его собственники — представители языческой партии. И это стало возможно после их крещения.
Интересен сюжет об аналогичной ситуации в палестинской Газе. Там конфликт св. еп. Парфирия и местной языческой партии продолжался длительное время. С целью прекратить волнения, епископ заручился поддержкой императрицы. Только с ее помощью удалось добиться умиротворения. Но даже при такой поддержке, для сноса языческих храмов понадобился специальный указ, изданный непосредственно императором (Дауни 2014: 23).
Вып. 8. 2016
В отличие от Херсонеса, в Газе военные приняли непосредственное участие в разрушение храма Марены (Дауни 2014: 23). Что же касается Херсонеса, то присланные из столицы солдаты, скорее всего, являлись только свидетелями процесса.
Тексты Житий не много сообщают о строительстве церкви: « повелев тотчас построить крещальню из обожженной извести, всех окрестил в ней … воздвиг он и храм, примыкающий к ней, во имя первого и верховного из апостолов Петра » (Могарычев и др. 2012: 25—26), « всем народом прибегли к крещению в купели, которую изготовил из той самой гашеной извести священный Капитон » (Могарычев и др. 2012: 32—36), « Воздвигли же близ той купели церковь святого и старшего из апостолов Петра » (Могарычев и др. 2012: 82—86), « В изъявление ревности к благочестию они около купели, в которой крестились, воздвигли великий и прекрасный храм во имя святого и верховнаго апостола Петра » (Могарычев и др. 2012: 93).
Скорее всего, христиане разобрали античные храмы на территории Восточной площади и положили начало формированию нового христианского культового комплекса. Он изначально уже включал в себя церковь и баптистерий. Фрагменты античных построек могли быть использованы для возведения христианского храма, что в значительной степени могло способствовать ускорению процесса.
Принято считать, что церквей было две: ранняя и сменившая ее поздняя базилика, остатки которой сохранились на площади и сегодня. Действительно, известны находки, которые могут быть отнесены к раннему периоду существования христианского комплекса. Среди них три плиты. Первая была открыта на территории Херсонесского некрополя. На ее лицевой стороне в рамке изображен Христос — безбородый юноша с нимбом, подающий руку тонущему Петру. Справа он них сохранился парус, вероятно, от изображения корабля. На тыльной стороне плиты — рамка и остатки креста. Сохранившийся текст переводиться как: « Господь Иисус, подающий руку Петру » (Виноградов 2005: 91—92; Латышев 1899a: 337—339; Латышев 1899b: 26—27). В настоящее время плита храниться в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже (рис. 7).
Вторая, так называемая «Парижская плита» (рис. 8), храниться в Лувре. Точное место обнаружения ее не известно. Она происходит из коллекции генерал-интенданта Робера, который приобрел ее, по всей вероятности, во время Крымской (Восточной) войны 1853— 1856 гг. На лицевой стороне, в рамке, изображен Христос в виде безбородого юноши с нимбом, протягивающего правую руку в жесте благословения. На тыльной стороне — рельефная рамка. Текст переводиться как « Господь Иисус, Говорящий Петру и спутникам его: бросьте справа от корабля сеть и поймаете » (Виноградов 2005: 91—92; Латышев 1906: 55—56).
Существует и третья плита — херсонесская. Она была найдена близ Восточной базилики. На ее лицевой стороне видна верхняя часть рамки, а под ней — следы изображения головы. Сохранившийся фрагмент текста расшифровывается как « Господь Иисус… » (Виноградов 2005: 91—92).
Схожесть фрагментов была отмечена и обоснована В. В. Латышевым и А. Ю. Виноградовым. Ученые датируют эти памятники кон. IV — нач. V в. (Виноградов 2005: 91—92). Несомненно, все три плиты принадлежали одному литургическому устройству. Разное положение Христа на петербургской, парижской (слева) и херсонесской (справа) плитах говорит о том, что они являлись элементами композиции, построенной по принципу симметрии. Сохранившиеся сюжеты связаны с морской и водной тематикой. Допустимо предположение о возможной принадлежности плит ограде крещальной купели.
Вып. 8. 2016
Культовый комплекс на Восточной площади в Херсонесе—Херсоне
Схожая изобразительная программа, связанная с темой воды и спасения, известна по баптистерию Православных в Равенне (Виноградов 2010: 118).
Еще один артефакт вызывает повышенный интерес. Речь идет о «Посвящении Мартирия». Эта ктиторская надпись была открыта в ходе раскопок, проведенных ООИД в 1876 г. Она явно имеет отношение к Церкви св. ап. Петра. Памятник представляет собой две плиты алтарной преграды с рельефным изображением креста с расширяющимися концами и с текстом « о молитве за Мартирия и всех его близких ». Плиты датируют кон. IV — нач. V в. (рис. 9). А. Ю. Виноградов обоснованно утверждает о сирийско-палестинском происхождение имени, лишний раз подчеркивая тем самым пути проникновения христианства в город (Виноградов 2010: 122).
Можно лишь предположить, что ранняя церковь могла быть конструкцией базиликального типа с пристроенным или стоящим рядом баптистерием, в котором, согласно тексту агиографического источника, и были крещены херсонеситы.
Комплекс восточной базилики включает величественный трехнефный (36,6 × 16,4 м) храм, возвышающийся над входом в Карантинную бухту. Но, к сожалению, атрибуция его затруднена. Исследователи, ссылаясь друг на друга, тиражируют утверждения, не всегда имеющие подтверждение или обоснование. Так, они указывают, что внутренняя колоннада состояла из шести пар колонн. Но на чертеже, который привел А. Л. Якобсон, различимы семь пар колон (Якобсон 1959: 166). Это касается и других данных. Чертежи, скорее напоминают технические рисунки. Но, тем не менее, на сегодняшний день они являются основным источником, позволяющим судить об архитектуре памятника.
Учитывая это обстоятельство, опишем комплекс как можно точнее. Его алтарная часть находится в полукруглой внутри и пятигранной с наружи апсиде, имевшей ширину 8 м. Нефы и нартекс были вымощены мозаичными полами. Стены были облицованы внутри мраморными плитами. Однако нечего не известно о наличие или отсутствие устройства для вложения мощей под алтарем. В частности, было ли оно оформлено в виде углубления, как например, в Западной базилике (Фомин и др. 2015: 127—152), или размещалось в самой алтарной конструкции.
В углу, между окончанием северного нефа и апсидой, к базилике было пристроено помещение, в которое вел вход из нефа. Само сооружение не сохранилось. Сегодня сложно говорить о его назначении.
С северной стороны к базилике был пристроен и крестообразный кимитирий. Вернее всего, он был возведен вскоре после окончания строительства храма. В усыпальнице было открыто несколько могил, но, к сожалению, их описания не сохранились (Айналов 1905: 44).
Сооружение имело сводчатое перекрытие, высота строения, по мнению Ю. Г. Лосицкого, составляла около 6 м, толщина стен — 0,98 м, длинна и ширина ветвей составляла 4,9 м (Лосицкий 1988: 27—36).
Храм имел три входа, с западной стороны: один в западной ветви креста. Два других — в южной и северной ветвях. Крестообразное сооружение не имело с восточной стороны апсиды и алтаря (Лосицкий 1988: 27—36).
Это была усыпальница в виде «крытого кладбища», имевшая мемориальные функции. Крестообразная пристройка могла быть местом погребения мирян — прихожан храма ап. Петра, за особые заслуги удостоенных права погребения в кимитирии (Фомин 2008: 95— 104).
В ходе раскопок, проведенных ООИД, рядом с Восточной базиликой были открыты следы одноапсидного квадратного баптистерия с купелью (Бертье-Делагард 1907: 25). К сожалению, на сегодняшний день его следов фактически не осталось. К. К. Косцюшко-
Вып. 8. 2016
Валюжинич указывал, что следы баптистерия исчезли вскоре после открытия. Можно лишь предполагать, что вначале была построена базилика, несколько позже к ней был пристроен крестообразный мартирий, и затем, используя уже имеющиеся стены, встроен баптистерий. Вход в него вел из южной ветви крестообразной часовни.
Вопрос о датировке строительства комплекса остается открытым. Большинство исследователей приводят дату VI—VII вв., относя возведение базилики ко времени «архитектурного бума» описанного С. Б. Сорочаном (Сорочан 2005: 711). Но, как отмечалось выше, во время раскопок весь культурный слой, который нес датирующий материал, был удален до скалы.
Нет достаточного количества фактов, которые бы позволили обосновать смелую гипотезу о строительстве базилики в кон. IV — нач. V в. В качестве аргумента в ее пользу можно констатировать лишь наличие значительного количества строительного материала, полученного в результате разбора античных храмов находившихся здесь, а так же присутствие в городе имперских военных инженеров.
Единственным временным репером может быть заполнение колодца, открытого южнее следов античной постройки. Он содержал материал кон. VI — нач. VII в. (Золотарев, Буйских 1994: 81). Можно предположить, что находки из колодца позволят установить не только дату возведения, но и время проведения реконструкций храма и всей восточной площади.
В ХI—ХIII вв. с южной стороны базилики, в ее средней части, была пристроена крошечная церквушка с одной апсидой, рядом к востоку находились две точно такие же. Вероятно, они были усыпальницами представителей поздневизантийской городской знати, духовной или светской, т.к. имели под полом только по одной — две могилы.
В первом квартале в ходе раскопок, проведенных Р. Х. Лепером, была открыта небольшая церквушка. Такие культовые сооружения Херсонеса часто называют часовнями. К. Э. Гриневич, основываясь на материалах раскопок 1908 г., относил первый строительный период храма № 17 к VII—VIII вв. У него большая — 6,4 × 4,92 м большая пятигранная снаружи апсида (Гриневич 1930: 21—24). Пол был вымощен каменными плитами. Вымостка перед алтарной нишей образует полукруг, который, возможно, был выложен мозаикой. Здесь же было устроено две могилы.
Постройка имела два настила: нижний: более ранний — из прекрасно обработанных плит проконесского и греческого островного мрамора и поздний — Х—ХII вв., лежащий на метр выше предыдущего, в котором были устроены две могилы.
Поначалу в церквушку вело два входа: с юга, со стороны аккуратно вымощенной плитами площади, и с запада5. Такие миниатюрные однотипные церквушки или часовни имелись в каждом квартале города. Строились они вскладчину самими общинами прихожан или наиболее состоятельными ее представителями. Община такой церквушки могла состоять из нескольких семей, живших в этом квартале (Гриневич 1930: 15).
Таким образом, можно констатировать, что Восточная площадь на протяжении всей истории существования Херсонеса—Херсона оставалась одним из центров религиозной жизни города. В IV—III вв. до н.э. здесь сформировался античный культовый комплекс, связанный с почитанием Девы—Парфенос, известный по письменным источникам как Парфенон. В конце IV в. на его месте начал формироваться христианский комплекс, связанный с почитанием ап. Петра. Он состоял из базилики с нартексом и экзонартексом, крестообразной часовни—кимитирия, баптистерия и помещения, назначение которого
Вып. 8. 2016
Культовый комплекс на Восточной площади в Херсонесе—Херсоне установить не удалось. В последующем здесь же строиться несколько малых церквей. Комплекс существовал до гибели города.
Список литературы Культовый комплекс на восточной площади в Херсонесе-Херсоне
- Айналов Д. В. 1905. Памятники христианского Херсонеса. Вып. I. Развалины храмов. Москва: Товарищество типографии А. И. Мамонтова.
- Бертье-Делагард А. Л. 1907 О Херсонесе. ИАК. Вып. 21. Санкт-Петербург: Императорская академия наук, 1-70.
- Ведешкин М. А. 2013. Кодекс Феодосия «О язычниках жертвоприношениях и храмах». НВБелГУ 27, 38-47.
- Виноградов А. Ю. 2005. Херсонесский храм св. Петра и его эпиграфические памятники. ХСб. 14, 91-93.
- Виноградов А. Ю. 2010. «Миновала уже зима языческого безумия...»: церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики. Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке.
- Вус О.В. 2010. Оборона доктрина Вiзантiї у пiвнiчному Причорномор'ї. Львiв: Трiада Плюс.
- Гриневич К. Э. 1930. Северо-восточные кварталы Херсонеса Таврического по данным раскопок Р. Х. Лепера. ХСб. 3, 5-141.
- Дауни Г. 2014. Газа в начале VI века. Белгород: БелГУ.
- Золотарев М. И. 1976. Отчет о раскопках в Северо-Восточном районе Херсонеса в 1976 г. Архив НЗХТ. Дело № 1836.
- Золотарев М. И. 1985. Эллинистическое домашнее святилище в Херсонесе. Причерноморье в эпоху эллинизма. Материалы III Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья. Цхалтубо-1982 г. Тбилиси: Мецниереба, 266-276.
- Золотарев М. И., Буйских А. В. 1994. Теменос античного Херсонеса Опыт архитектурной реконструкции. ВДИ 3, 78-102.
- Зубарь В. М. 2004. Таврика и Римская империя: Римские войска и укрепления в Таврике. Киев: Стилос.
- Зубарь В. М. 2005. Боги и герои античного Херсонеса. Киев: Стилос.
- Кропоткин В. В. 1961. Клады римских монет на территории. СССР. САИ Г4-4.
- Латышев В. В. 1899a. Греческие и латинские надписи, найденные в Южной России. МАР. Вып. 23. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 2-52.
- Латышев В. В. 1899b. Этюды по византийской эпиграфике. ВВ 6, 337-369.
- Латышев В. В. 1906. Жития свв. епископов Херсонских. ИРАН. Историко-филологическое отделение. Записки. Т. 8. № 3, 1-77.
- Лосицкий Ю. Г. 1988. Опыт реконструкции крестообразных храмов Херсона. B: Бибиков С. Н. (отв. ред.). Архитектурно-археологические исследования в Крыму. Киев: Наукова думка, 27-36.
- Лосицкий Ю. Г. 1991. Про вiзантiйськi базилiки Херсонеса. Археологiя 2, 83-98.
- Мещеряков В.Ф. 1980. Религия и культы Херсонеса Таврического в I-IV вв. н.э.: Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Москва.
- Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Саргсян Т. Э., Сорочан С. Б., Шапошников А. К. 2012. Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического. B: Сорочан С. Б. (гл. ред.). Нартекс. Byzantina Ukrainensis. Т. 1. Харьков: Майдан.
- Романчук А. И. 2000. Очерки истории и архитектуры византийского Херсона. Екатеринбург: Уральский университет.
- Серов В. В. 2004. О ранневизантийских монетах в фондах музеев Эрмитаж и «Херсонес Таврический». Россия-Крым-Балканы: диалог культур: Научные доклады международной конференции (Севастополь, 6-10 сентября 2004 г.). Екатеринбург: Волот, 39-40.
- Соломоник Э. И. 1990. Каменная летопись Херсонеса: Греческие лапидарные надписи античного времени. Симферополь: Таврия.
- Сорочан С. Б. 2002. О храме во имя Апостола Петра в раннесредневековом Херсонесе (Херсоне). Восток-Запад: межконфессиональный диалог. IV Международная Крымская конференция по религиоведению. Тезисы докладов и сообщений. Севастополь, 37-38.
- Сорочан С. Б. 2005. Византийский Херсон (вторая половина VI -первая половина X вв.). Очерки истории и культуры. Ч. 1. Харьков: Майдан.
- Сорочан С. Б. 2006. О базилике апостола Петра и храмовом комплексе Восточной площади византийского Херсона. ВВ 65(90), 223-230.
- Фомин М. В. 2004. О раннехристианском некрополе и монастыре Богородицы Влахернской в окрестностях Херсонеса. Проблемы истории археологии Украины. Материалы V международной конференции, посвященной 350-летию г. Харькова и 200-летию Харьковского национального университета им В. Н. Каразина (4-6 ноября 2004 г.). Харьков: НМЦ «МД», 74-75
- Фомин М. В. 2008. О внутригородских кладбищах византийского Херсона. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В. Н. Караiзна 40, 95-104.
- Фомин М. В. 2012a. К вопросу о формировании христианской общины в позднеантичном Херсонесе. МАИАСК 4, 69-77.
- Фомин М. В. 2012b. О гарнизоне Херсонеса в 4 в. Материалы Х научной конференции «Ломоносовские чтения» и Х Международной научной конференции студентов, аспирантов, и молодых ученых «Ломоносов 2012». Севастополь: ООО «Экспресс-печать», 104-105.
- Фомин М. В. 2015. О культе местночтимых святых в ранневизантийском Херсоне. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В. Н. Караiзна 50, 225-232.
- Фомин М. В., Огиенко Е. В., Шевцова А. А. 2015 О культовом комплексе Западной базилики в средневековом Херсонесе-Херсоне. МАИАСК 7, 127-152.
- Фомин М. В., Шевцова А. А. 2013. О раннехристианских комплексах Херсонеса. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В. Н. Каразiна 47, 22-33.
- Чореф М. М. 2013a. К вопросу о периодизации денежного обращения Таврики в эпоху римского господства. Stratum plus 4, 191-215.
- Чореф М. М. 2013b. Становление византийской Таврики: по данным нумизматики. МАИАСК 5, 166-186.
- Чореф М. М. 2015. История византийской Таврики по данным нумизматики. Тюмень; Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет (МАИАСК Suppl. 1).
- Чореф М. М. 2016. К этнической истории Херсонеса Таврического (по данным эпиграфики). РАЕ 5-6, 100-115.
- Якобсон А. Л. 1959. Раннесредневековый Херсонес: Очерки истории материальной культуры. МИА 63. Москва; Ленинград: Академия наук СССР.
- Berndt G. M., Steinacher R. 2008. Minting in Vandal North Africa: coins of the Vandal period in the Coin. Cabinet of Vienna's Kunsthistorisches Museum. Early Medieval Europe 16(3). Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- icon-art.info: 1: Гнутова С. В. «Константинов крест» -древний памятник раннехристианского искусства на территории России. URL: http://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=68 (дата обращения: 25.12.2016).
- ivran.ru: 1: Лебединский В. В. Изучение древней береговой линии Херсонеса Таврического и его хоры URL: http://www.ivran.ru/nauchnye-ekspedicii?artid=3178 (дата обращения: 25.12.2016).
- Wroth W. 1911. Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and the empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum. London: British Museum.