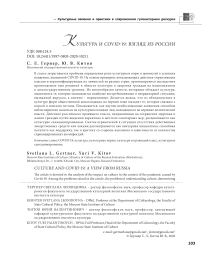Культура и COVID-19: взгляд из России
Автор: Гертнер Светлана Леонидовна, Китов Юрий Валентинович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурные явления и практики в современном гуманитарном дискурсе
Статья в выпуске: 2 (94), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье затрагивается проблема определения роли культурных норм и ценностей в условиях пандемии, вызванной COVID-19. На основе примеров, показывающих действия управляющих классов и персонифицирующих их личностей из разных стран, прогнозируются последствия принимаемых ими решений в области культуры и здоровья граждан на национальном и межгосударственном уровнях. Из многообразия качеств, которыми обладает культура, выделяются те, которые оказываются наиболее востребованными в неординарной ситуации, вызванной вирусом, а именно - нормативные. Делается вывод, что из объединяемых в культуре форм общественной консолидации на первый план выходят те, которые связаны с наукой и поиском истины. Показывается, как научно необоснованные заявления способны неблагоприятно сказаться на культурном имидже лиц, находящихся на вершине политической власти. Действия российского правящего класса, направленные на сохранение здоровья и жизни граждан путём введения карантина и жёстких санитарных мер, расцениваются как культурно санкционированные. Снятие ограничений в ситуации отсутствия действенных лекарственных средств или вакцин рассматривается как венчурная инициатива, способная получить как поддержку, так и критику со стороны населения в зависимости от количества спровоцированных ею инфекций.
Культура, культурная норма, культура и правящий класс, культурное санкционирование
Короткий адрес: https://sciup.org/144161348
IDR: 144161348 | УДК: 008:124.5 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-10211
Текст научной статьи Культура и COVID-19: взгляд из России
Со времени начала пандемии, вызванной COVID-19, ЮНЕСКО предприняла инициативу в виде проекта «Culture and COVID-19» для того, чтобы «поддержать жизнеспособность артистов и объединить правительства для выработки решений» [13]. Организация озабочена тем, что 89% мирового культурного наследия, ранее доступного населению Земли для непосредственного контакта, либо оказались закрытыми от него, либо «мигрировали» в онлайн. Основной урон культуре, который Организация связывает с COVID-19, она позиционирует как экономический: «Музеи и другие культурные институты теряют миллионы в выручке каждый день. Художники по всему миру не могут свести концы с концами» [13]. Ни в коей мере не подвергая сомнению давление на экономическую сторону функционирования учреждений и организаций культуры, пострадавшей из-за коронавируса, мы попытаемся затронуть и другие стороны культуры, которые также испытывают напряжение в условиях пандемии.
Оценку воздействия коронавируса на культуру в плане динамики её таксономии, норм и ценностей, культурного санкцио- нирования поведения и деятельности ещё предстоит осуществить. Вместе с тем отдельные выводы оказываются возможными уже сегодня. Их актуальность на фоне медицинской и экономической оценки вируса, на первый взгляд, кажется незначительной, однако изменения в культуре оказываются индикаторами того, как общество сущностно реагирует на значимые события. Поэтому если медицина позволяет двинуться в сторону понимания вируса и механизма его «работы», а экономика фиксирует и прогнозирует его влияние на товар и деньги, то культурология позволяет выявить сущность происходящих с обществом изменений, память о которых останется с людьми значительно дольше применения того или иного лекарства или факта флуктуации ВВП и национальной валюты периода пандемии.
Определений культуры на сегодняшний день существует множество, что фиксируется в паспорте научной специальности культурологии в ВАК, и каждое из них является условием того, что изучаемое явление всегда значительнее, нежели то знание, которое о нём удалось установить в тот или иной момент. Однако исторические мо- менты предоставляют возможность фиксации в культуре тех её проявлений, которые на данный момент представляются актуальными. Ещё важнее то, что те или иные качества культуры становятся необходимыми, формируются нормы, по которым начинают жить люди в трудных и ранее неизвестных обстоятельствах. Так, в условиях пандемии, несмотря на важность таких качеств культуры, как рекреация и релаксация, их значение не идёт в сравнение с нормами, способными сохранить здоровье и человеческую жизнь. В целом период пандемии предъявил нормированию культурного поведения и деятельности требования в большей степени нравственного, нежели эстетического или релаксационного содержания. Нам представляется, что культура сегодня раскрывается «в отношении человека к другому человеку и к природному объекту и фиксируется в мыслительной возможности поставить себя на их место, выступающей в качестве важнейшей характеристики его (человека) последующей практики» [2, с. 79]. Такое понимание культуры возводит христианскую традицию в универсальную этику, однако какая из других традиций сегодня является более адекватной к информированию нравственных норм и способов поведения, которые были бы общечеловеческими, а не классово, национально или регионально базируемыми?
Взять, например, социальное дистанцирование или ношение масок. Те, кто этого не делают, подвергаются осуждению в любом обществе. Общечеловеческими критериями измеряются и действия национальных правительств. Как быстро они реагировали на предостережения учёных и оперативно ли вводили самоизоляцию, снабжали ли масками и средствами дезинфекции своё население? Реакция на коронавирус создаёт ранее непрогнозируемые политические пред- почтения. Например, в Германии лидеры из южных земель, отличающиеся религиозностью, никогда не были популярными в северных землях, что не давало им возможности претендовать на кресло канцлера. Однако реакция Маркуса Содера (Markus Söder), выразившаяся в более адекватном отношении к предупреждению немецких учёных и быстром введении самоизоляции, вывела его на первые позиции среди тех, кто должен сменить Ангелу Меркель [17, p. 3].
Не менее адекватным элементом христианской этики, сколько бы свидетельств от обратного ни приводилось, является приоритет знания над невежеством, который оказался востребованным в условиях пандемии.
В. В. Вересаев в «Записках юного врача», характеризуя отсутствие научного знания в культуре российских крестьян, приводит пример смерти одной из пациенток, которой был выписан рецепт карболки для дезинфекции туалета. Она, считая невозможным таким образом распорядиться «лекарством», выпивает стакан, что приводит её к гибели. Публикуя данный материал, В. В. Вересаев преследовал две цели. Первая – показать читателю абсолютно лишённый научного мировоззрения мир русской деревни; вторая – пробудить у образованного читателя жалось и желание помочь своим гражданам в восполнении созданного предшествующей социально-политической системой неравенства между образованной и необразованной частью российского общества, символическим выражением которого является смерть.
Казалось бы, ситуация, воспроизводящая события начала XX века, не имеет шансов для своего воспроизведения в начале XXI века. По крайней мере, абсолютно невозможным представляется такой дефицит научного компонента в мировоззре- нии политика в XXI веке, когда он, сродни мировоззрению русской крестьянки XX века, предлагает использовать средства дезинфекции, схожие по своему назначению с карболкой, для лечения заражённого коронавирусом человека. Вместе с тем брифинг американского президента, в процессе которого он допустил применение отбеливателя и изопропилового спирта для инъекций больным коронавирусом, переводит такую невозможность в действительность [16, p. 1]. Поразительным в данном случае является факт, демонстрирующий неравенство, в основе которого лежит не материальное благополучие, а культура. Именно культура, в виде уровня представленности в ней компонентов научного мировоззрения, является той неожиданной характеристикой, которая делает Президента Америки маргиналом, объединяющим его в единую субкультуру с пьющей карболку русской крестьянкой, несмотря на несоразмерность обладания материальными ценностями.
Оказывается, что структура современной власти, выстраивая формальное сито отбора для восхождения на высшие уровни политики, оставляет не только возможности обхода строгих норм морали, права, незаконного обладания собственностью, но и культуры. И в связи с тем, что стремящиеся к вершинам политической власти индивиды в большей степени озабочены сокрытием информации о незаконных доходах, мы имеем возможность открытия для себя информации о не отвечающем элементарным нормам уровне их культуры. Именно кризисы предоставляют нам такую возможность, поскольку политики вынуждены выходить за пределы отведённых политической культурой барьеров для ответа на вопросы, ставящиеся перед ними обществом. Совершенно очевидно, что представившийся на всеобщее обозрение уровень культуры Дональда Трампа явился отражением того, что сегодня в движении к об- ретению адекватного культурного уровня, даже у президентов, причиной выступают не диктуемые внешними условиями требования, а требования внутренние, не необходимость, но свобода, не потребность, но интерес. Именно отсутствие у Д. Трампа культурного интереса обусловило возможность находящихся за пределами культуры предложений. Однако если нам уже представилась возможность понять, что система отбора политической элиты не требует наличия у претендента на самый высокий пост развитых культурных интересов, то нам ещё предстоит увидеть, насколько долго отсутствие таких интересов позволяет оставаться на таком посту.
Не только христианские ценности в их противопоставлении языческим оказываются востребованными для продуцирования адекватных ситуации пандемии культурных норм, но и научные – в их противопоставлении обыденным.
Серьёзным метаморфозам в условиях пандемии подверглась такая часть культурного сознания, как теоретическое мышление. Теоретические представления о COVID-19, транслируемые учёными, столкнулись с обыденным сознанием масс и были вынужденно адаптированы. Этому способствовал ряд обстоятельств, как традиционных, так и современных. К традиционным следует отнести реакцию масс на диспозицию правдоподобия и истины. Правдоподобие, которым удовлетворяются интересы обыденного сознания, оказывается предметом, более лёгким для массового потребления, нежели научное представление о предмете. Если бы было по-другому, то университетское образование и получение учёных степеней было бы массовым явлением. Практика же не только свидетель- ствует об обратном, но и о том, что даже в научной среде можно потерять не только признание, но и степень за следование не истине, а правдоподобию.
В основе ложных новостей также лежит правдоподобие. Сознание современного массового человека настолько зависимо от правдоподобия, что этим пользуется создатели ложных новостей. Новости для того, чтобы привлечь массовую аудиторию, должны содержать сенсационность. Последняя не может базироваться только на истине, в противном случае мы были бы свидетелями ежедневно совершающихся открытий, каждое из которых оказывалось бы достойным Нобелевской премии. Прогресс при капитализме измерялся бы не накоплением капитала, а знаний. Окружающий нас мир базировался бы не на автократии или демократии, а меритократии, и правили бы нами не политики, а учёные. Однако даже в таких обстоятельствах находится место для учёного, роль которого сосредоточивается на борьбе с правдоподобием оружием истины. Хотя и выдерживают это не все: «Я с сожалением смотрю на последнюю запись Дженни Рон в научном блоге Гардиан, который она вела: “Я заблуждалась. Нельзя победить ложные новости оружием научной коммуникации”» [14, p. 4].
Коронавирус как раз и выступил в роли сенсации, которая спровоцировала ряд правдоподобий. Одно из них выразилось в том, что вирус может быть результатом работы учёного, а не неосторожности торговца или потребителя продуктов из мяса диких животных. Медиа захлестнула волна правдоподобных версий «злого умысла», «военной разработки», «неосторожности учёного» и т.д. Несмотря на ряд публикаций, доказывающих естественное, а не искусственное происхождение вируса, обыденное сознание взяло верх над теорети- ческим мышлением, чему в немалой степени способствовали не только журналисты, но и врачи и политики, когда они склонялись к правдоподобию. Вплоть до сегодняшнего дня ряд важнейших медиаканалов, среди которых ведущие газеты и получившая в условиях самоизоляции дополнительную популярность информационная платформа Yandex, публикуют высказывания отдельных личностей, ставших символами эпохи коронавируса. А немногие научные публикации оказываются излишне сложными для массового понимания. Даже в случаях, когда новостные издания пытаются использовать научную информацию и адаптировать её для массового понимания, им это удаётся довольно редко. Например, когда «Lenta» попыталась взять на себя функции научного издания в вопросе о развенчивании искусственного происхождения вируса, то публикуемый текст из-за его плохо адаптированной для массового понимания сложности только усиливал сомнения: «Группа китайских учёных обнаружила, что необычные мутации, характерные для коронавируса SARS-CoV-2, встречаются в другом недавно идентифицированном вирусе, выделенном из диких летучих мышей. Это открытие опровергает миф, что возбудитель COVID-19 мог быть создан в лабораторных условиях» [8].
Далее следовало объяснение различий между вирусами: «Коронавирус RmYN02 был обнаружен среди 227 образцов, собранных в китайской провинции Юньнань в период с мая по октябрь 2019 года. Оказалось, что некоторые участки РНК-генома RmYN02 почти идентичны SARS-CoV-2. Например, в кодирующей белки области 1ab РНК обоих вирусов схожа на 97,2 процента. При этом в той части генома, что кодирует домен, связывающийся с человеческим рецептором ACE2, сходства не выявлено. Это значит, что
RmYN02 не способен заражать клетки человека в отличие от SARS-CoV-2» [8]. Для неискушённого в вирусной биологии человека если между двумя вирусами выявлено 97,2 процентное сходство и один заражает человека, а другой нет, довольно сложно освободиться от мысли, что 2,8 процента различий были внесены в вирусы не природой, а человеком. Не внушает оптимизма и применяемое новостной платформой сокращение mythcorona (мифкорона), которая включена в веб-адрес, ведущий к сравнению информации о вирусах.
Однако ещё более опасным является правдоподобие при столкновении с новым явлением, научное объяснение которого находится в стадии становления. Суть од- ного из них состояла в том, что не все медицинские работники, столкнувшиеся с COVID-19, могли научно верифицировать возникающие в связи с вирусом мифы и вовремя противопоставить им факты. Наиболее очевидным оказалось расхождение мнений по поводу роли, которую играет в связи с вирусом жаркая погода. Так, один из медийных докторов распространение вируса летом связал не с воздействием на жировую оболочку вируса высокой температуры, а с тем, что летом снижается восприимчивость людей к вирусам, так как летом мы менее восприимчивы к респираторным заболеваниям. Безусловно, доктора находятся на переднем крае борьбы с вирусом, но их роль нельзя переоценивать. На них, очевидно, возлагается значительная нагрузка в работе с населением, но основная их функция – это задействование в своей практике выработанных другими знаний. Они действительно находятся на переднем крае борьбы с вирусом, но только в той части, в которой вирус должен быть элиминирован при помощи данных им средств и технологий.
Разработка же средств и технологий, как и способов их применения, является уделом учёных. Именно они рассматривают вирус как научную проблему и используют науку для выработки комплекса мер по её решению. Нельзя утверждать, что доктора не принимают участие в научных исследованиях, информация об этом содержится в прессе, но факты их участия только подтверждают правило их привлечения как участников эксперимента, проводимого учёными. Так, Оксфордский центр тропической медицины, готовящийся к проведению клинического исследования по использованию антималярийных медикаментов в борьбе с COVID-19, в котором предполагается участие 40 000 че- ловек, готов привлечь к нему докторов и медицинских работников из Англии для чистоты эксперимента, но считает невозможной победу над вирусом на основе врачебной практики. Именно учёные стоят во главе эксперимента. Их рекомендации являются наиболее ценными для населения, и в стремлении помочь они готовы пренебречь публичной этикой, но не здоровьем людей, свидетельством чему является речь одного из ведущих исследователей в области рака, HIV/AIDS и генома человека Вильяма Хаселтина (William Haseltine): «Не слушайте политиков, кто говорит вам, что вакцина будет готова к их переизбранию. Может быть, это будет так, но я хочу сказать, что выработка вакцины отличается от баскетбольного броска, меняющего счёт в игре … всякий раз, когда люди пытались разработать вакцину – против Sars or Mers – она в конечном счёте не работала … Разработанные ранее вакцины от других типов коронавируса не могли защитить слизистые оболочки носа, через которые вирус обычно проникает в тело». Учёный настаивает, что соблюдение дистанции, маски и мытье рук являются более эффективными средствами борьбы с вирусом.
Однако упрёк носителям массового сознания в ориентации на правдоподобие, а не на истину, которую учёные пытаются транслировать в массы, имеет и другое объяснение. Суть его состоит в том, что обладателями знания, в отличие от тех, кто его добывает, выступают не учёные, которые при капитализме относятся к классу employee, а класс employer, среди которых оказываются в первую очередь транснациональные корпорации, финансирующие исследования. Это обстоятельство и заставляет массового человека сомневаться, что прибыль и корпоративная этика как незыблемые основания корпораций вдруг уступят место чему-то иному и присваиваемые корпорациями знания будут использоваться не в интересах прибыли, а в общественных интересах.
В России среди публичных личностей, которым доверено транслировать информацию о коронавирусе на постоянной основе, оказываются политики. Однако доверие к транслируемой ими информации, особенно в условиях коронавируса, среди населения не возросло. А вот факт открытого и постоянного обращения врачей к населению посредством СМИ, как и сам отбор нескольких фигур из большого количества медиков, кто сегодня борется с вирусом, следует проанализировать в терминах диспозиции «истина – правдоподобие» более содержательно. Палитра тех, кому было предоставлено право голоса, отражает не структуру медицинского учреждения (от главврача до санитарки) или научного учреждения (от директора института до научного сотрудника), а скорее, структуру медиакорпорации со своими «якорями». Первым среди них является Александр Мясников – ведущий программы «Спасибо, доктор!». Поскольку доктор является одновременно главврачом и постоянным ведущим программы, что довольно трудно совместить при одинаково серьёзном отношении к каждой из профессий, то его передача удивительным образом сочетает правдоподобие с истиной, и только приглашаемые учёные склоняют чашу весов передачи в сторону истины.
В качестве примера можно привести передачу от 1 июня 2020 года, когда правдоподобие спекуляций о вакцине и вакцинации было нарушено интервенцией руководителя лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Н. И. Вавилова Российской академии наук Сергея Львовича Киселёва [9]. С. Л. Киселёв, являясь серьёзным учёным, работы которого опубликованы в зарубежных журналах, ссылаясь на статистику и врачебную практику, рассказал, что из 100% заразившихся коронавирусом, только 50% переносят его тяжело и что именно для этих 50% необходима вакцинация. Учёный с первых же слов развеял правдоподобие того, что скорой является возможность создания вакцины, приводя научную аргументацию. Сложности с выработкой вакцины связаны с тем, что нет модельной системы для её испытания, то есть вакцину нельзя испытать на иных видах, кроме человека. От COVID-19 умирают только люди, обезьяны и хорьки только чихают и кашляют. Обращаясь к истории, С. Л. Киселёв сообщил, что на разработку вакцины против SARS-1, который также вызывается коронавирусом, ушло 10 лет. А SARS-2 (COVID-19) к тому же имеет свою специфику. Если SARS-1 приводил к расширению лёгких, то COVID-19 влияет на микроциркуляцию. Поэтому необходим системный подход, который бы включал серьёзный разбор случаев, моделирование, а также анализ задействованных рецепторов, нацеленность на определённые клетки, а также выбор «химии», которой можно «давить» вирус. Самое надёжное средство сегодня – это изоляция и понятием, как человеческий капитал, то бу- карантин.
Ещё одна проблема, которую обнажила пандемия, является культурный уровень человека, содержание его внутреннего мира. Именно человеческое содержание является культурной мерой всего сущего. Наиболее различимо в истории научной и философской мысли роль человека смог выразить Протагор: «Мера всех вещей – человек» [5, с. 152a]. Современные философы культуры не только не отвергают прота-горовское толкование, но и развивают его применительно к своим исследовательским задачам. В частности, В. М. Межуев считает, что «для философа всё в мире, даже природа, исполнено человеческого смысла и содержания, существует, следовательно, как культура» [4]. Е. А. Подольская связывает с человеческим содержанием предметов и вещей их культурный смысл: «Материальные предметы, вещи, созданные человеком, включают в себя определённое человеческое содержание … Духовное выступает не просто как само по себе культурное, но и как форма, канал, при помощи которого материально-вещественное, распредмечиваясь, обретает свой культурный смысл» [6, с. 155– 156]. М. С. Каган и Ю. Н. Солонин предлагают видеть человеческое содержание через сознательность, воспитанность и креативность: «Среди наиболее важных характеристик субъекта культуры выступают сознательность (способность и потребность проявлять надприродные качества), воспитанность (сформированность по реально-идеальной культурной матрице) и креативность (умение производить “культурный продукт”, не уничтожая великие ценности прошлого, но, напротив, используя их в своих действиях)» [3, с. 88].
Поскольку человеческое содержание применительно к человеку связано с таким дет продуктивным проанализировать, какое влияние пандемия оказала на принятие решений элитами, в которых бы учитывалась ценность человеческого капитала. Удивительным образом страны с авторитарными элитами и соответствующими формами правления, проявившимися в резко ограничительных мерах по отношению к своему населению (изоляция, социальная дистанция, пропуска на выход из дома, безусловное требование масочного и перчаточного режима), в своих действиях оказались бо- лее склонными к сохранению человеческого капитала, нежели страны с ярко выраженными демократически ориентированными элитами. Китай и Россия смогли сохранить больше человеческих жизней, нежели США, Швеция, Испания, Италия. Международная статистика, выводящая Россию на второе место после США по человеческим потерям, вряд ли может быть рассмотрена как объективная, так как не принимает во внимание плотность населения в местах наиболее высокой смертности. Большинство смертей в России пришлось на мегаполисы, критерии плотности населения в которых превосходят аналогичные в мегаполисах стран, с которыми сравнивалась Россия.
Скорее осознанно, чем нет – выбор российского правящего класса между сохранением экономики и человеческих жизней привёл к тому, что наша страна с менее развитой медицинской системой смогла сохранить больше людей, нежели страны с более высоким уровнем демократии и более развитой системой медицины. Особенно видимым примером выступает, когда правящий класс оказался менее решительным в задействовании ограничительных мер, что стоило большего количества человеческих жизней, чем это могло бы быть, явилась Швеция. Один из журналистов дал такую кар- тину отличия действия шведских властей от датских: «Сравните шведские рекомендации с теми, которые датское правительство транслировало своим гражданам: “Отмените пасхальный обед! Отложите семейные визиты! Не ходите на экскурсии!”. Соответствующая рекомендация Агентства общественного здравоохранения Швеции гласила: “В преддверии праздников и Пасхи стоит обратить внимание на вопрос о том, необходимо ли осуществлять запланированные поездки по стране”» [15]. Культурная сторона реакции на пандемию в Швеции проявилась не только в культуре политиков, но и в общенациональной культурной традиции, отражаемой словом folkvett (манеры). Однако перевод на другие языки folkvett не отражает всего многообразия значений, которые объединены в слове. Folkvett предполагает «моральное чувство, которым каждый гражданин должен обладать по определению, без того, чтобы его этому кто-то специально учил. В данном слове отражается качество, отсутствие которого каждый швед инстинктивно считает очень плохим тоном» [15]. Именно на наличии данного качества строилась реакция шведского премьер-министра на введение ограничений другими странами, которые шведы решили не вводить. Ему вторили ответственные работники здравоохранения: «Каждый гражданин несёт ответственность не распространять болезнь» [12, p. 4].
Вместе с тем последние инициативы российского правящего класса, выражающиеся в снятии ограничений, введённых в связи с тяжёлой санитарно-эпидемиологической ситуацией, свидетельствуют о коренном изменении приоритетов в дихотомии: «бизнес – человеческая жизнь» в пользу первого, а значит, и об изменении парадигмы в понимании ценности человеческого капитала. Несмотря на то, что ко- личество заболевающих вирусом в последнее время, согласно официальной статистике, стало снижаться, на сегодняшний день не разработаны ни лекарства, ни вакцина против коронавируса. Курс на возвращение к «нормальной жизни» в такой ситуации свидетельствует, что в качестве нормы здесь выступают экономические показатели, а приоритет сохранения человеческой жизни в ущерб экономике оказывается ненормальным. Какое же содержание в данном случае российский правящий класс вкладывает в понятие нормы? Очевидно, что не человеческое содержание. Отсюда в терминах культурфилософского подхода действия российского правящего класса не могут рассматриваться как культурно обусловленные, но вместе с тем «нормальные». Нормальность действий здесь определяется не фактом изменения тактики реакции на событие коронавируса (движением от изоляции от вируса в сторону экспозиции к нему, с последующей выработкой коллективного иммунитета), а стратегией подчинения человека капиталу в условиях капитализма.
Совершенно очевидно, что российский правящий класс рассматривает как норму приоритет экономики над человеческой жизнью. Философская позиция российской элиты не испытывает обусловленности и христианской традицией, где мерой человека оказывается Божья любовь. Напротив, её позиция выступает следствием философии американского бизнеса, где мерой человека является его способность приносить доход [11]. Отсюда можно заключить, что философия российского правящего класса в связи с коронавирусом не отличается последовательностью и мигрирует от безусловной ценности человека к капиталу как его мере. Анализ действий российской элиты в условиях коронавируса демонстрирует то, что в приоритетах элиты давно удалось установить абсолютность капитала и относительность человека: «Придание капиталу абсолютности существования делает всё остальное относительным, в том числе и человека. Капитал движется к самому себе, усложняясь в формах и увеличиваясь в размерах, а человек являет собою только ступень в его развитии» [1, с. 83].
Если предпринятый выше анализ нормативной специфики правящего класса под воздействием событий, связанных с коронавирусом, позволяет констатировать её изменчивость, то и нормативная сторона межкультурной коммуникации также демонстрирует серьёзную динамику. Введённые различными странами запреты и ограничения на передвижение, требования соблюдения социальной дистанции и самоизоляции (в случае заболевания или контакта с потенциальным носителем вируса) способствовали формированию новых норм, несоблюдение которых имеет не только административные, но и культурные санкции. Данные нормы не являются культурными в том смысле, которым культурологи наделяют коммуникацию с представителями иной культуры, своего и иного гендера или межпоколенческой коммуникации. Культурность данных норм возникает пока только от обратного, то есть от культурных санкций в случае их несоблюдения. Так, широкий резонанс в медиа вызвал видеоролик, выложенный на Facebook водителем автобуса из Детройта Джейсоном Харгроу (Jason Hargrove). В видео водитель запечатлел чихающую рядом женщину, которая не только не имела маски, но и не прикрывала ладонью лицо. Видео было сопровождено словами: «Это говорит о том, что некоторым людям абсолютно всё равно!» [11, p. 3]. Видео стало мемом культурного осуждения поведения тех, кому «всё равно» после того, как через две недели водитель умер от коронавируса.
Сегодня уже совершенно ясно, что науке о культуре придётся предпринять серьёзную работу не только по описанию фактов межкультурных коммуникаций с использованием требуемых медицинскими системами разных стран средств защиты (масок и перчаток), но и задаться более общими вопросами о нормах, скажем, рукопожатия и сокрытия под маской части своего лица. И если в России не следует ожидать напряжённости в вопросе о культурном санкционировании ношения маски в публичных местах, то Европа и Америка окажутся в более сложном положении. Ряд Европейских стран, столкнувшись с проблемами, привнесёнными к ним новым потоком миграции из Ближнего Востока, законодательный запрет на ношение женщинами бурки в публичных местах обосновывал культурными нормами, свойственными европейской традиции не сокрытия своего лица. Заставляя женщин, с которых вчера были сняты бурки, сегодня закрывать лицо масками, европейцам вряд ли удастся подвести под это какую-то культурную традицию, кроме страха перед вирусом. Сейчас им нужно будет объяснять мигрантам, что нормы сохранения тела в Европе всегда доминируют над нормами сохранения духа. В Америке же проблема ношения масок уже сейчас сталкивается с негативной традицией дискриминации чёрного населения белым. Чёрный американец, у которого закрыто лицо, вряд ли будет вызывать положительные эмоции у тех белых, кто к нему уже и так относился с недоверием. Особенно выпуклой данная проблема обещает стать в связи с прокатившимися по Америке волнениями, вызванными расистскими действиями полиции, которые периодически приводят к гибели афроамериканцев.
Ещё одной проблемой, которая демонстрирует под влиянием коронавируса ранее нефиксируемые грани своего формирования и проявления, оказывается представленность в культурной норме традиционного и новационного. В науке о культуре достаточно хорошо изучено, как традиции и новации характеризуют общества, в которых они возникают и функционируют. То, что Россия относится к традиционным обществам, доказывается не только её историей, но и современным состоянием. Одним из свидетельств этого является лексика разнообразных программ развития страны, в которых выражаются требования «модернизации», «инноваций», «творческой инициативы», «качественного обновления личности» и т.д.
В «Основах государственной культурной политики» указывается на необходимость «планомерных и последовательных инвестиций в человека и качественное обновление личности», которые в прошлом «были явно недостаточными» [7, с. 6].
Вышеизложенное как раз и является свидетельством того, что Россия, достаточно хорошо утвердившись как традиционное общество, и сейчас на шкале «традиционное – новое» стремится как можно ближе продвинуться к новому.
Нацеленность российского правящего класса в данном случае абсолютно обоснованна, так как «представитель традиционной культуры в процессе своей жизнедеятельности просто извлекает из совокупного “культурного архива” предусматриваемый для тех или иных конкретных обстоятельств определённый шаблон и воспроизводит его без всяких колебаний. В таких обществах на все случаи жизни существуют уже готовые поведенческие и смысловые стереотипы. То, что не укладывается в них, либо отвергается, либо игнорируется, выпа- дая полностью или частично из “культурного зрения”» [2, с. 179].
Россия на момент пандемии, оставаясь всё ещё преимущественно традиционным обществом, должна была бы транслировать своим гражданам нормы, основанные на шаблонах, укоренённых в прошлом. Частично это можно было констатировать в том, как требования властей транслировались в общество и какие методы контроля их соблюдения избирались. Однако содержание мер, принятых страной, в частности самоизоляция, явились на удивление инновационными. Даже такие страны, как Дания, не рассматривали возможность изоляции граждан, придерживаясь традиции. Датский учёный Свэнн-Эрик Мамеланд (Svenn-Erik Mamelund), будучи членом комитета Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization) по немедицинским интервенциям в условиях пандемии, свидетельствовал, что его комитет не рассматривал «изоляцию даже в случае самого неблагоприятного сценария» [18, p. 3]. Изоляция, маски и перчатки стали в России не только медицинской, но и культурной нормой, которая базировалась не на традиции, а на абсолютно новом подходе к адресации пандемии.
Поскольку в культурологии с инновациями связывается «способность человека отражать действительность, трансформировать свои поступки согласно возникающим изменениям, вносить элемент новизны, то инновации напрямую зависят от индивида, от его способностей к творческой активности, а также от возможностей общества воспринимать, интегрировать и адаптировать результаты такой активности» [2, с. 180]. Следовательно, либо Россия оказывается более инновационной страной, нежели Дания, либо традиционные общества способны придавать культурное со- держание новым нормам быстрее, нежели инновационные.
Пандемия извлекает из арсенала представлений о культуре такие, в которых отражаются её существенные качества, нацеленные на сохранение и нормирование, нежели на творчество и разнообразие. Актуализируется ценность научной составляющей культуры как универсального способа ответа человечества на вызовы пандемии. В условиях, когда не соответ- ствующее санитарным нормам поведение, такое как игнорирование ношения маски и перчаток, способно нанести серьёзный вред здоровью окружающих, отступающие от норм индивиды попадают не только под административное, но и под культурное санкционирование. Ценность научной ис- тины выступает критически востребованной для сохранения общественной консолидации, отодвигая на время такие консолидирующие общество формы общественного сознания, как религия. В диспозиции «истина – правдоподобие» безусловную культурную ценность приобретает истина. Правдоподобные версии событий, которые в обычных условиях способны оказывать митигирующее воздействие на психику, способствуя психологической раз- грузке, в условиях пандемии оказываются разрушительными. Пандемия ярче проявляет социальные различия и показыва- ет, что решения по ключевым вопросам как профессиональной, так и повседневной жизни находятся исключительно в арсенале правящего класса.
Список литературы Культура и COVID-19: взгляд из России
- Гертнер С. Л., Китов Ю. В. Человеческий капитал как культурфилософская проблема // Вестник культуры и искусств. 2017. № 2 (50). С. 78-86.
- Китов Ю. В. Человек интересующийся : монография. Москва : МГУКИ, 2001. 255 с.
- Культурология : учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. Москва : Высшее образование, 2005. 566 с.
- Межуев В. М. Культурная функция философии // Философские науки. 2008. № 1. С. 10-24.
- Платон. Теэтет. (152а). Диалоги Платона [Электронный ресурс]. URL: http://psylib.org.ua/books/plato01/22teate.htm#s15
- Подольская Е. А. Социальная философия : учебник. Харьков : НУА, 2009. 544 с.
- Основы государственной культурной политики : утверждены Указом Президента РФ от 24.12.2014 N 808 [Электронный ресурс] : [веб-сайт]. URL: static.kremlin.ru/media/events/ filesM1d526a877638a8730eb.pdf
- Раскрыто истинное происхождение коронавируса [Электронный ресурс] // Лента.ру : [веб-сайт]. Электрон. дан. 12 мая 2020 года. URL: https://lenta.ru/news/2020/05/12/mythcorona/
- Соловьёв LIVE. Спасибо, доктор! / Мясников / Коронавирус / Ответы на вопросы / Выпуск 45 01.06.2020 [Электронный ресурс]. URL: https://yapolitic.ru/9936-solovev-live-spasibo-doktor-myasnikov-koronavirus-otvety-na-voprosy-vypusk-45
- Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Москва : Юнити-Дана, 2002. 420 с.
- Beckett L. (2020) Detroit Bus Driver Dies of Coronavirus After Posting Video About Passenger Coughing. The Guardian. April 3 : 3. (In English)
- Brueck H. (2020) Sweden's Gamble on Coronavirus Herd Immunity Couldn't Work in the US - And It May Not Work in Sweden. Business Insider. May 2 : 4. (In English)
- Ernesto Ottone R. UNESCO. Available at: https://en.unesco.org/covid19/cultureresponse (In English)
- Fox F. (2018) Scientists Must Keep Fighting Fake News, Not Retreat to Their Ivory Towers. The Guardian. September 3 : 4. (In English)
- Löfgren E. Sweden's Coronavirus Strategy Is Clearly Different to Other Countries so Who Should People Trust? Available at: https://www.thelocal.se/20200327/sweden-the-coronavirus-is-unknown-territory-for-most-of-us-no-matter-where-were-from (In English)
- Noor P. (2020) Please Don't Inject Bleach': Trump's Wild Coronavirus Claims Prompt Disbelief. The Guardian, April 24 : 1. (In English)
- Oltermann P. (2020) Merkel Announces Plans to Reopen Schools and Shops in Germany. The Guardian, April 15 : 3. (In English)
- Spinney L. (2020) Inequality Doesn't Just Make Pandemics Worse. The Guardian, April 12 : 3. (In English)