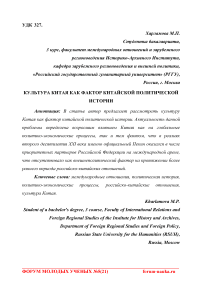Культура Китая как фактор китайской политической истории
Автор: Харламова М.П.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 5-3 (21), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье автор предлагает рассмотреть культуру Китая как фактор китайской политической истории. Актуальность данной проблемы определена возросшим влиянием Китая как на глобальные политико-экономические процессы, так и тем фактом, что в реалиях второго десятилетия XXI века именно официальный Пекин оказался в числе приоритетных партнеров Российской Федерации на международной арене, что отсутствовало как внешнеполитический фактор на протяжении более раннего периода российско-китайских отношений.
Международные отношения, политическая история, политико-экономические процессы, российско-китайские отношения, культура китая
Короткий адрес: https://sciup.org/140283007
IDR: 140283007
Текст научной статьи Культура Китая как фактор китайской политической истории
Ощутимый рост экономики Китая, происходящий параллельно с увеличением влияния Китайской Народной Республики на международные процессы, формирует запрос на всестороннее академическое рассмотрение китайской тематики с научных позиций.
Исходя из сказанного выше, невозможно оставить в стороне такой важный фактор как культура Китая, в том числе ее значение для китайской цивилизации с точки зрения политической истории. Строго говоря, китайская политическая система, ровно, как и внешняя политика Китая, в конечном счете, опираются на ценности и институты, сформированные на протяжении длительного развития китайской культуры, ведь их формирование проходило на протяжении колоссального хронологического периода длительностью в более чем пять тысячелетий.
Особенности китайской культурной ассимиляции: «Поднебесная» и «Варвары»
Авторитетный американский политолог Збигнев Камош Бжезинский в рамках фундаментального труда «Великая шахматная доска: Господство
Америки и ее геостратегические императивы»1 справедливо отметил, что на протяжении большей части своей политической истории китайская цивилизация не сталкивалась с противниками равными или превосходящими Китай по силе, развитию и/или влиянию.
Исключения из этого правила, безусловно, имели место: так, например, Великобритания в рамках так называемых «Опиумных войн» середины XIX столетия нанесла чувствительное поражение Китаю, а во второй четверти уже XX столетия Японская империя осуществила оккупацию восточных и северо-восточных китайских провинций.
Обозначенное выше обстоятельство является одним из стержневых основ для выработки со стороны китайской цивилизации особого отношения к соседям Китая: китайская сторона перманентно рассматривала своих соседей именно как «варваров»2, живущих вне территории «Поднебесной», то есть территории, на которую распространялась власть китайских императоров, провозглашенных не иначе как «представителей Неба» на земле.
Важно отметить, что последовательное рассмотрение Китая как «Поднебесной» не было сугубо политической пропагандой3 , так как этот тезис имел, прежде всего, религиозное происхождение, непосредственно из конфуцианского учения, в рамках которого Китай, строго говоря, отождествляется со всем земным миром, управляемым китайским императором.
В свою очередь, авторитетный политолог и бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер отмечал, что китайская цивилизация стремилась избегать войн с так называемыми
«варварами», предпочитая использовать принцип стратегического стравливания «варваров» между собой и тем самым де-факто нивелируя потенциальную возможность выступить совместным военным походом и нанести ту или иную степень ущерба Китаю4.
Примечательно, что вышеуказанный принцип ни в коей мере не является историческим архаизмом, характерным, например, для периода древнего мира и/или средних веков – он сопровождал китайскую цивилизацию, строго говоря, на протяжении всей политической истории.
Например, уже во второй половине XX столетия официальный Пекин активно использовал плеяду разногласий между Советским Союзом, с одной стороны, и Соединенными Штатами Америки, с другой стороны, что открывало для Китайской Народной Республики новые геополитические возможности, то есть для Китая даже сверхдержавы СССР и США, с точки зрения восприятия, являлись практически такими же «варварами», как племена гуннов, монголов или маньчжуров5.
Стоит отметить, что Великая китайская стена также является более чем наглядным свидетельством того, что китайская цивилизация, несмотря на свое очевидное преимущество, как правило, не стремилась завоевать территории «варваров», предпочитая стратегии завоевания, именно путь обороны так называемой «Поднебесной».
С другой стороны, когда «варварам» все же удавалось так или иначе пробить брешь в обороне Китая, например, монгольским ордам в начале XIII столетия или же племенам маньчжуров уже в середине XVII века, то китайская цивилизация не только не растворялась в привнесенной культуре завоевателей, но и, напротив, наблюдался процесс того, что китайская культура, строго говоря, их цивилизационно поглощала.
Так, например, в случае с монгольскими ордами Чингисхана, завоевавшими Китай, имело место полное сохранение китайских традиций, обычаев, а также религии. Более того, внук Чингисхана, Хубилай, основавший на территории завоеванного Китая новую империю Юань сам перенимал китайские обычаи, подвергаясь при этом критике со стороны монгольской знати.
Обозначенный выше курс Хубилая на последовательную китаизацию монгольской политической элиты был продолжен его потомками и имел место вплоть до окончательного падения империи Юань уже в рамках так называемого «Восстания Красных повязок» середины XIV столетия6.
Примечательно и то, что, с точки зрения официальной государственной историографии Китая, упомянутая выше империя Юань рассматривается именно как одна из исторических форм китайской государственности, то есть, строго говоря, китайской стороной фактически игнорируется имевший место контекст монгольского правления7.
В свою очередь, практически аналогичная ситуация произошла с маньчжурами: уже в середине XVIII столетия племена маньчжуров завоевали как территорию Китая, так и Тибет, а также остров Тайвань. Но вскоре маньчжурские завоеватели фактически растворились в китайской культуре, более того, маньчжурами также был принят и «Небесный мандат», высший символ политической власти, дававший носителю право на управление «Поднебесной» от имени «Сына Неба»8.
Важно отметить, что маньчжуры, подобно монголам, основали собственную династию – династию Цин, которая оказалась последней в монархическом периоде истории Китая, просуществовав с 1644 по 1912 год,
то есть вплоть до начала так называемой «эры милитаристов»
Непосредственно сама территория Маньчжурии, откуда и пришли завоеватели, была вскоре инкорпорирована в состав империи Цин, а впоследствии колонизирована и освоена выходцами с перенаселенных центральных провинций Китая10.
В этой связи нельзя не отметить и то, что один из наиболее успешных правителей Китая за всю его историю, император Канси, имел не ханьское11, а именно маньчжурское происхождение, его правление было относительно мирным и продолжалось более шести десятилетий, став своеобразным «золотым веком» Цинской империи12.
Исходя из обозначенного выше, можно сделать вывод, что на протяжении политической истории китайской цивилизации культура Китая выполняла функцию сохранения государственности, прежде всего, через ассимиляцию элит завоевателей, их китаизацию, что, в свою очередь, создавало необходимые предпосылки для постоянного перерождения Китая в новых формах.
Влияние китайской культуры на политические процессы
-
• Политическая система Китая как отражение китайской традиции
В 2011 году влиятельный политик Генри Киссинджер в рамках обширного труда «О Китае» обратил внимание на то, что политическая система Китая, в отличие от большинства других государств, формировалась под минимальным влиянием политических традиций государств-соседей13.
Вышеуказанное обстоятельство, в свою очередь, предопределило то, что китайская политическая система является, в известной мере, уникальной и, строго говоря, не имеет в полной мере идентичных аналогов в других странах и регионах земного шара14.
Важно отметить, что корни Китая именно как единого и централизованного государства уходят к середине III столетия до нашей эры, то есть историческому периоду силового объединения плеяды малых государственных образований в монолитную империю Цинь под властью первого китайского императора Цинь Шихуанди15.
Примечательно, что в обозначенный выше период китайской политической истории первый император объединенного Китая, Ин Чжэн, также именуемый как Цинь Шихуанди, во многом задал основы политической системы Китая на многие столетия вперед.
Например, была осуществлена своеобразная кристаллизация такого политического института как советники при императоре: при этом если государственный аппарат Китая, чиновничество, являлось колоссальной по размеру социальной стратой, то высших советников, как правило, было всего двое16.
Более того, император следил за тем, чтобы высшие советники происходили не из одного клана, что, в свою очередь, было призвано нивелировать потенциальную возможность советников объединиться и организовать государственный переворот, свергнув и/или убив правящего императора17.
Нельзя не отметить и то, что параллельно с высшей китайской бюрократией имели место и евнухи, которые зачастую обладали особым авторитетом при императорском дворе, зачастую именно им поручалось вести «исторические записи» (Сыма Цянь), выполнять сложные, неординарные, порой интимные поручения (Ли Шуэр), а в некоторых случаях еще нужно было заниматься научной деятельностью (Чжан Хэ), в том числе курировать важные для государства изобретения18.
Наконец, при императорском дворе имели авторитет и так называемые даосские мистики, влияние которых, как правило, ощутимо нарастало именно в период смуты, кризисов и иных социальных, политических и/или экономических потрясений в Китае.
Таким образом, император хоть и декларировал себя как сакрального носителя «Небесного мандата», в известной мере, опирался на весьма широкий и в высшей степени неоднородный государственный аппарат.
При этом нельзя не отметить и то, что в сформировавшейся еще в древние времена политической системе Китая особое место занимают такие понятия, как «легизм», а также «меритократия»19.
Легизм, так называемая «школа законников», сформировался как новая философская школа еще в IV столетии до нашей эры и, прежде всего, предполагает получение государственных титулов не благодаря имеющимся связям, а на основании реальных достижений, а также особых умений и навыков.
Важно отметить, что первый император объединенного Китая, Цинь Шихуанди (настоящее имя – Ин Чжэн), во внутренней политике рьяно придерживался именно принципов легизма, что, в том числе конвертировалось в формирование единой мощной империи вместо плеяды относительно слабых, а также перманентно враждующих друг с другом государственных образований эпохи «Сражающихся Царств».
В свою очередь, меритократия, в известной степени, продолжает принципы так называемой «школы законников» и предполагает, что государственное управление будет предопределяться вовсе не по праву рождения, а на основании, прежде всего, превосходства в знаниях, опыте и/или достижениях.
Примечательно и то, что еще со времен династии Сун, то есть с начала VII столетия нашей эры существовала практика «Кэцзюй»: речь идет о проведении государственных экзаменов в рамках подготовки и обучения новых чиновников для китайского аппарата управления20.
Обозначенная выше практика предполагала возможность для грамотного человека в случае успешного прохождения экзаменов стать частью огромной государственной машины. В некоторой степени можно говорить о том, что «Кэцзюй» были прообразом социальных лифтов в Китае21: амбициозный человек имел возможность на основании собственной образованности пройти путь вверх по государственной службе и в долгосрочной перспективе даже занять достаточно высокое социальное положение в китайском обществе.
Строго говоря, государственные экзамены «Кэцзюй» являлись неотъемлемым компонентом политической традиции китайской цивилизации на протяжении большей части истории Китая и, в свою очередь, позволяли руководствоваться принципами легизма и меритократии не в конкретные исторические промежутки, а, наоборот, сформировали их в качестве полноценных государственных институтов, перманентно воспроизводящих элитные группы, а впоследствии продвигая их все выше и выше в рамках государственной службы22.
Важно отметить, что авторитетный исследователь-китаевед Бенджамин Элман отмечал, что именно практика проведения «Кэцзюй»
представляла собой центральный элемент в рамках культурной истории Китая со времен средних веков и вплоть до начала XX столетия.
Исходя из обозначенного выше, можно сделать вывод, что политический режим, сложившийся в Китае стал синтезом взаимного влияния плеяды следующих традиций и институтов: во-первых, мощной китайской бюрократии, включающей в себя сложную, разветвленную систему из чиновников и советников, во-вторых, социальных лифтов, инкорпорирование грамотного населения в управленческую элиту через предусмотренные для этого государственные экзамены, в-третьих, сакрализации фигуры верховного правителя, китайского императора, через распространение конфуцианского учения о так называемом «Небесном мандате» и «Сыне Неба».
-
• Экспансия китайской культуры: особенности «мягкой силы»Китайской Народной Республики
Американский исследователь специфики и особенностей «soft power/мягкой силы» Джозеф Най на примере Соединенных Штатов Америки и Великобритании неоднократно отмечал, что именно культура является одним из центральных элементов в рамках эффективного использования «мягкой силы» в разных государствах внешнего контура23.
В свою очередь, современная Китайская Народная Республика, как и ведущие западные страны, также использует элементы «мягкой силы».
«Мягкая сила» Китайской Народной Республики базируется на трех основных компонентах:
-
1. Деятельность Институтов Конфуция 24 : обозначенные заведения финансируются из государственного бюджета Китая и занимаются
-
2. Оформление так называемой «Китайской Мечты» (как альтернативная «Американской Мечте»)25: китайская версия включает в себя не только веру в достижение собственного благополучия, но и подразумевает надежду на понимание остальным миром весомой роли современного Китая в рамках международной системы26.
-
3. Работа государственных СМИ Китая: в начале второго десятилетия XXI века ведущие государственные СМИ Китайской Народной Республики стали распространять новости о китайской экономике, политике, культуре не только на традиционном/упрощенном китайском языке, но также на английском, арабском, русском, немецком и многих других.
продвижением китайского языка и популяризацией современной китайской культуры за пределами Китайской Народной Республики.
Важно отметить, что в рамках китайской «мягкой силы» особое значение имеют Институты Конфуция: несмотря на специфику названия это не конфуцианские храмы и/или академии, Институты Конфуция – это, прежде всего, культурно-образовательные центры, где желающие имеют редкую возможность познакомиться с китайской культурой, изучить основы китайского языка, а также попрактиковаться в нем с реальными носителями27.
Как глобальная государственная сеть Институты Конфуция начали функционировать с 2004 года. Примечательно, что первое отделение было открыто в столице Республики Корея, городе Сеуле.
Некоторые из Институтов Конфуция имеют собственную специализацию: так, например, в Афинах успешно функционирует Бизнес-
Институт Конфуция, а, в свою очередь, в Лондоне работает Институт Конфуция, специализирующийся, прежде всего, на китайской медицине.
В настоящий момент географический охват деятельности Центров Конфуция впечатляющий: от Канады и Соединенных Штатов – на западе и вплоть до Республики Корея и Японии – на востоке.
В свою очередь, совокупная аудитория по официальным китайским данным составляет более сорока миллионов слушателей, при этом обозначенная цифра включает как регулярных визитеров, так и единичных посетителей28.
Во многих странах постсоветского пространства, в том числе и на территории Российской Федерации также успешно функционирует плеяда Институтов Конфуция, продвигающих китайскую культуру и китайский язык заинтересованному населению России29: при этом отделения работают как в столице, Москве, так и в таких небольших региональных центрах как, например, Элиста, столица Калмыкии30. В настоящий момент насчитывается более 400 Институтов Конфуция.
Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, китайская культура в рамках политической истории Китая выступала в качестве фактора, сохраняющего государственность в те исторические периоды, когда Китай оказывался под властью иностранных завоевателей.
Во-вторых, система власти Китая в своем функционировании широко опирается на традицию не замкнутости элитных группировок, меритократию и легизм, а также на институты, обеспечивающих так называемый социальный лифт, например, на систему экзаменов для государственной службы «Кэцзюй».
В-третьих, современная Китайская Народная Республика, активно используя «soft power/мягкую силу», прибегает к колоссальному историкокультурному наследию китайской цивилизации, что выразилось в продвижении Институтов Конфуция во многих регионах и странах земного шара.
Таким образом, китайские культурные традиции сыграли решающую роль в формировании внутреннего облика Китая как централизованной державы, имеющую сакрализированную власть и влиятельную бюрократию. А свою очередь, в международных делах, не без влияния культурноисторической традиции, положение китайской стороны свелось к следующей внешнеполитической конструкции: Китай как «Поднебесная» и окружающей ее мир как пространство бесконечной борьбы разнообразных «варваров» между собой.
Список литературы Культура Китая как фактор китайской политической истории
- Байчоров А.М. Китаизация: последствия роста мощи Китая для мира в XXI веке. - М.: «Международные отношения», 2013. - 188 с.
- Бжезинский, З. Великая шахматная доска: Господство Америки и ее геостратегические императивы / Пер. с англ. О.Ю. Уральской. - М.: Международные отношения, 1998. - 112 с.
- Киссинджер Г. О Китае / Пер. с англ. В.И. Верченко. - М.: АСТ, 2014. - 635 с.
- Булдыгерова Л.Н. История Китая: учебное пособие / Л.Н. Булдыгерова. - Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. - 168 с.
- Михневич С.В. Панда на службе дракона: основные направления и механизмы политики «мягкой силы» Китая, - М.: Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика // НИУ «Высшая школа экономики», 2014. - 95-129 с.
- Официальный сайт Института стран Востока при Российской Академии Наук, [Электронный ресурс] - режим доступа: URL: http://www.orun.ru
- Официальный сайт информационно-аналитического издания «FOREIGN POLICY», [Электронный ресурс] - режим доступа: URL: https://foreignpolicy.com
- Официальный сайт информационного агентства «СИНЬХУА» (русская версия), [Электронный ресурс] - режим доступа: URL: http://russian.news.cn/china/index.htm
- Официальный сайт Российско-китайского учебно-научного центра Института Конфуция при РГГУ, [Электронный ресурс] - режим доступа: URL: http://www.confucius-institute.ru
- Троян И. «Мягкая сила» Китая: культурная экспансия «Красного Дракона» // Информационное агентство REX, [Электронный ресурс] - режим доступа: URL: http://www.iarex.ru/articles/52522.html