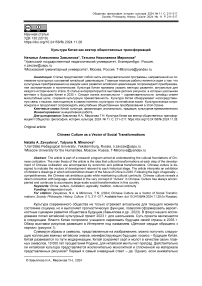Культура Китая как вектор общественных трансформаций
Автор: Завьялова Н.А., Миронова Т.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой часть исследовательской программы, направленной на понимание культурных оснований китайской цивилизации. Главным тезисом работы является идея о том, что культурные преобразования на каждом шаге развития китайской цивилизации сопровождают преобразования экономические и политические. Культура Китая призвана указать векторы развития, актуальные для каждого исторического этапа. В статье интерпретируется выставка детских рисунков, в которых школьники мечтают о будущем Китая в 2035 г. Следуя логике агональности - соревновательности, китайцы ставят масштабные цели, сохраняя культурную преемственность. Культура Китая обнаруживает непосредственную связь с языком, воплощенную в самом понятии «культура» на китайском языке. Культура всегда сопровождала и продолжает сопровождать масштабные общественные преобразования в этой стране.
Китай, культура, цивилизация, агональность, традиция, культурная преемственность
Короткий адрес: https://sciup.org/149147060
IDR: 149147060 | УДК: 130.2(510) | DOI: 10.24158/fik.2024.11.28
Текст научной статьи Культура Китая как вектор общественных трансформаций
Культура современного общества не только отражает актуальное для текущего момента состояние социума, но и выполняет прогностическую функцию, позволяя сформировать вероятностные сценарии развития общества в будущем (Завьялова и др., 2023). В фокус нашего исследования попал китайский культурный проект 2023 г. для школьников. Суть проекта заключается в следующем. Власти Китая попросили учащихся нарисовать будущее своей страны в 2035 г. Обзор выставки рисунков размещен в Интернете под названием «Детское сердце обращено к партии» (рисунок 1).
Суммируя образы и символы, представленные на изображениях, можно получить следующую коллекцию важных китайских знаков, манифестирующих будущее: космос – будущее Китая, Китай развивается по пути модернизации, Китай сохраняет серп и молот в качестве своих главных символов, 10 000 лет процветания Родине, для китайской мечты нет преград. Действительно ли китайская культура представляется исключительно монолитной и сплоченной на материале представленных рисунков? Первый и самый очевидный ответ – да. Однако, если внимательно
присмотреться, некоторые изображения содержат не только надписи на китайском языке, но и фразу Made in China, что свидетельствует о стремлении китайцев выражать свои надежды на английском языке, поскольку он востребован в современном КНР. У. Уитмен сказал о себе как об американце: «мы включаем в себя множества» (contain multitudes)1, аналогичные утверждения справедливы и по отношению к современным китайцам и их культурной идентичности.
■Мк
Рисунок 1 – Иллюстрации из статьи о детской выставке «Детское сердце обращено к партии»2
Figure 1 – Illustrations from the Article about the Children’s Exhibition “Children’s Heart Turns to the Party”
Китай – это страна, где идентичность имеет большое значение, но также страна конкурирующих и многоуровневых вариантов идентичности, отличающихся бесконечной сложностью (Кош-карова, Кожухова, 2023; Курдюмов, 2020; Хабаров и др., 2022). Человек может быть как китайцем, так и некитайцем (гражданином Китая, но членом этнического меньшинства), или может быть китайцем одновременно на многих должностях в иерархии принадлежностей региональных связей – к китайскому, кантонскому, гуандунскому, южному китайскому, иностранному китайскому сообществу. Понятие «китаец» может быть политическим, этническим или культурным. Действительно, ученый-неоконфуцианец Ту Вэймин однажды предположил, что любой, кто ценит китайскую цивилизацию, может считаться китайцем (Wei-Ming, 1995). В современном китайском языке присутствуют выражения, иллюстрирующие возможность стать китайцем, не имея этнической принадлежности: 鸡蛋人 – букв. человек-яйцо (снаружи белый, внутри желтый), «окитаевшийся» европеец. Отметим, что существует и выражение, манифестирующее обратный процесс: 香蕉人 – человек-банан (желтый снаружи, белый внутри), об азиатах, родившихся на Западе и/или воспитанных в европейском ключе (Юй Линхун, 2023).
В рамках китайской культуры человек может позиционировать себя как сторонника традиций, неотрадиционалиста, поклонника модерна, постмодерниста или участника других общностей многомерного спектра современных культурных парадигм. Сама по себе традиционная культура Китая также не является чем-то единым и неизменным. Она по-разному понимается, богато воображается и переосмысливается (Китайская лингвокультура..., 2010). Например, для китайца, который считает себя традиционалистом, эта идентичность может относиться к конфуцианской либо буддийской традиции, поклонению предкам, возможно, просто к определенным представлениям о гендерных отношениях (Руженцева, Нахимова, 2019). Сегодня китайским традиционалистом может считать себя даже тот, кто верит в идеалы председателя Мао. Однако сам Мао никогда не настаивал на том, чтобы представлять собой идеал, не настаивал на каком-либо безоговорочном культе. Нередко бытует мнение, что китайцы являются типичными коллективистами, но мы найдем среди них и самых радикальных индивидуалистов как сегодня, так и в историко-философской перспективе. Достаточно внимательно рассмотреть лица воинов Терракотовой армии, чтобы понять, что индивидуальные черты каждого рядового человека находились в фокусе китайской традиции уже в третьем тысячелетии до нашей эры в эпоху китайского императора Цинь Шихуанди.

Рисунок 2 - Воины Терракотовой армии 1
Figure 2 – Warriors of the Terracotta Army
Бытует мнение, что китайцам присущи черты безоговорочного авторитаризма, но они также сильны и демократическими позициями даже в период расцвета коммунистической идеи. Достаточно вспомнить лозунг Мао Цзэдуна о том, что нужно позволить всем высказываться открыто и демонстрировать разницу в суждениях: «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ» ( НЖ-^Ж НЖФ^ ) (Усов, 2017). Китайцам нельзя отказать и в проявлениях национализма: само название страны - центральное государство ( ФД ) - свидетельствует о национальной идее Китая как о центральной точке всего мира. Китайцы - поклонники секуляризма, но в то же время они чрезвычайно религиозны. Нередко китайцы объявляют себя яростными сторонниками мира, но при этом готовы проливать кровь в конфликте за родину. Можно с уверенностью сказать, что все китайцы знают, кто они такие и почему они такие особенные. Для них чрезвычайно важна собственная идентичность человека из Поднебесной. Эта идентичность является столь же мощным самооценочным признаком, сколь многообразна субстанция «китайскости». Но идентичность остается общей не из-за того, что у китайцев есть много общего, а из-за их общего участия в серии дебатов, выборов, обсуждении дилемм и разногласий. Разница объединяет их, а общность культуры играет цементирующую роль.
1 Зачем китайцы похоронили 8 000 керамических воинов [Электронный ресурс] // 2020. URL: (дата обращения: 14.09.2024).
Культура сыграла чрезвычайно важную роль в социальных преобразованиях Китая в Новое время. Необходимо отметить, что само слово «культура» обнаруживает прочную сцепку с языком, поскольку 文化 составлено из двух иероглифов, главным из которых является 文 – литературный язык, вэньянь, литературный стиль (слог). В китайском контексте трансформация культуры часто рассматривается как ключ к преобразованию общества. Эта реформаторская стратегия была ясно продемонстрирована в трех крупных социальных преобразованиях Китая в новейшей истории. Первое имело место в 1898 г., когда Кан Ювэй ( 康有为 , философ, реформатор эпохи Цин, каллиграф, 1858–1927 гг.) вместе с единомышленниками возглавили 100-дневную реформу с опорой на конфуцианскую культуру.
Требования реформы сводились к ужесточению экзаменов на чин, технологическим преобразованиям по западному образцу, но с сохранением власти императора. За половину столетия, прошедшую между «опиумной войной» 1840 г. и 1898 г., китайская правящая элита не предпринимала никаких серьезных социальных реформ. 100-дневная реформа была построена по принципу внедрения западных технологий без коренного изменения общества. Попытки реформировать политическую систему Китая потерпели неудачу с крахом династии Цин в 1911 г. и ввиду неспособности элит вскоре после этого создать работоспособную республику. Эти неудачи в реформировании политической системы в конечном счете привели к появлению Нового культурного движения ( 新文化运动 ), которое было провозглашено Движением четвертого мая 1919 г. с новым пониманием того, что политическая реформа не может быть достигнута без трансформации политического сознания людей. Однако из самого названия движения понятно, что китайцы закладывали в суть реформ именно трансформацию культурную. Последняя характеризовалась решительным отказом от культурной традиции Китая и укреплением западных ценностей, будь то либерализм или коммунизм.
Очередная трансформация культуры потерпела неудачу отчасти из-за нескольких десятилетий внутренних потрясений, вызванных двумя гражданскими войнами и войной с японцами. Второй крупной социальной трансформацией была коммунистическая культурная революция ( 文化大革命 ), возглавляемая Мао Цзэдуном с 1949 до 1976 г., буквально до смерти председателя Мао. Режим Мао постоянно боролся за реформирование китайского общества с помощью различных кампаний: движения ста цветов в 1956–1957 гг., движения за коллективизацию в 1956–1957 гг. и «большого скачка» в 1958 г. Одновременно с этим воплощением коммунистических социальных преобразований Мао стало культурное событие: великая пролетарская культурная революция (1966–1976 гг.). Согласно доктрине китайской культурной революции, так называемые «четыре старины» ( 四旧 ) – старые идеи, старая культура, старые обычаи и старые привычки – должны были быть устранены. «Четыре старины» отсылали не только к китайской конфуцианской традиции, но и к западным влияниям, которые пришли после открытия Китая внешнему миру в середине XIX в. Культурная революция была прекращена со смертью Мао.
Третьей культурной трансформацией стала реформа, ориентированная на капитализм, начатая Дэн Сяопином в 1978 г. Как и в случае с первыми двумя социальными преобразованиями, данная реформа началась с «некультурных» вещей, таких как технология и экономика. Но по мере продвижения реформы культура снова оказалась на первом месте в повестке дня. Так называемые «культурная лихорадка» ( 文化热 ) и «великие дебаты о культуре» ( 文化大讨论 ) в 1980-х гг. послужили наглядной иллюстрацией этой инициативы. После этого среди наблюдателей за Китаем было широко распространено мнение, что 1990-е годы были периодом настоящего прагматизма. Однако, когда десятилетие приблизилось к концу, мир снова был в шоке, обнаружив еще одно огромное культурное событие: всего за 7 лет миллионы китайцев были обращены в так называемый Фалуньгун ( 法轮功 – последователи круга дхармы) – секту, в основе которой лежала идея буддийского культурного ренессанса. Культура сыграла такую важную роль в современной китайской политике, что философ и историк Ту Вэймин заметил, что, хотя экономика является движущей силой реформ, культура определяет направление (Wei-Ming, 1995).
Важность политической культуры в социальных преобразованиях признается даже ортодоксальным экономико-детерминистским марксизмом. В современных условиях квинтэссенцией китайской культурной идеи, на наш взгляд, следует считать идею «Один пояс, один путь» ( 一带一路 ), в основе которой лежит стремление воссоединить маршруты Великого шелкового пути из прошлого с современными логистическими возможностями Китая, когда маршруты прокладываются по всем возможным направлениям, включая космос. Какова культурная идея, стоящая за этим лозунгом? Современный Китай – это Китай, успешно преодолевающий любые преграды, страна безграничных возможностей и новейших технологий. Made in China – знак высокого качества и прогресса.
Сама концепция «Один пояс, один путь» была сформулирована китайским правительством в 2013 г. (Муратшина, 2018). Китайские политические лидеры трактуют ее как «новый шелковый путь», а именно «экономический шелковый путь» и «морской шелковый путь», к которому в будущем с высокой степенью вероятности может быть присоединен и «великий космический шелковый путь». Это китайская версия Великого шелкового пути – План возрождения. Очевидно, что данная концепция выполняет роль метафорического переосмысления более ранней культурной формулы.
По замыслу китайского руководства, идея современной культурной формулы «Один пояс, один путь» – это новейший культурный символ китайской цивилизации, в основе которой лежит амбициозная глобальная экономическая и геополитическая программа. Данная программа базируется на специфических смыслах культурного объединения вокруг китайской доктрины древнего Шелкового пути и передает китайские смыслогенетические концепции, эстетические идеи и гуманистические императивы в рамках созданной китайцами парадигмы движения товаров, идей и людей по определенному маршруту. Китайской элите на протяжении нескольких тысячелетий удается поддерживать и развивать идею о том, что культурный обмен и взаимовыгодное сотрудничество в рамках торговых маршрутов способствуют развитию коммуникационных сетей, формируют особую культурную общность вдоль процветающего Шелкового пути.
Взаимовыгодное процветание активизирует социокультурную динамику и стимулирует образование специфических культурфилософских концепций благоприятного сотворчества людей из разных стран мира. Подобное сотворчество генерирует важнейшие культурные образцы и способствует социальному и культурному развитию, направленному на становление мощного союза под руководством китайских элит. Помимо оказания экономического и геополитического влияния, анализируемый союз предлагает благоприятную платформу для развития международного образования в сфере китайского языка и культуры. Образовательные проекты быстро проникают и развиваются в странах некитайского ареала, при этом культурное влияние Китая постоянно усиливается.
Примером развития подобного образовательного проекта с мощной культурной платформой является Институт Конфуция (Муратшина, 2023), чья основная деятельность направлена на продвижение китайского языка за рубежом. Культурные программы инициативы «Один пояс, один путь», а также образовательные проекты Института Конфуция воплотили в себе китайские смыслогенетические особенности и позволили создавать и воспроизводить самые привлекательные образцы китайской культуры на международной арене. Можно с уверенностью констатировать, что на протяжении тысячелетий Китаю удается распространять, укреплять и популяризировать собственную культурологическую концепцию, позволяющую успешно применять свои идеи для формирования и укрепления влияния уже не только в русле Великого шелкового пути, но и в пределах всего земного шара. Китайское руководство активно внедряет культурные идеи для изменения глобального геополитического порядка. В то время когда государства западного типа внедряют собственные идеи путем вооруженных конфликтов, китайское культурное влияние формируется посредством экономических союзов, торговых соглашений, взаимовыгодного обмена, базирующихся на основаниях эффективной кооперации и стремлении развивать проекты, приносящие ощутимые результаты для всех участников.
Необходимо обратить внимание на динамический характер концепции «Один пояс, один путь». Китай не выдвигает лозунг всеобщего процветания посредством дотаций, гуманитарной помощи или иных видов выплат. В основе концепции лежат движение, развитие, сотворчество и содействие. Странам – участницам данного движения предлагается совместное развитие, а не пассивное бездействие, финансируемое мощным лидером. Думается, что именно такая концепция содействия может изменить к лучшему положение участников проекта, желающих действовать, а не праздно поглощать ресурсы. Деятельностное начало – чрезвычайно важная составляющая культурфилософской концепции Китая, которая может быть проиллюстрирована известной идеей о том, что дать голодному человеку рыбу означает накормить лишь один раз, но дать удочку и научить ловить рыбу – накормить голодного на всю жизнь.
Возвращаясь к выставке детских рисунков, отметим, что все они выполнены в торжествующей тональности, символизирующей победное шествие Китая в космическом пространстве. Тема победы в соревновании является еще одной важной культурной чертой Китая – стремлением к агональности, соперничеству. Последнее пронизывает все пласты народного творчества Китая: от легенды о животных, борющихся за место в гороскопе, до бытовых сказок. Сюжет одной из многочисленных сказок наглядно иллюстрирует возможность соревнования даже между членами одной семьи. Обращение к жанру бытовой сказки позволяет продемонстрировать степень влияния агонального заряда на смыслогенез китайской цивилизации. Не будет преувеличением сказать, что агональность определяет развитие Китая на всех уровнях: от семейного быта до внешнеполитической стратегии.
Рассмотрим сюжет сказки. Муж и жена дома съели по одной лепешке, осталась третья. Супруги решили устроить соревнование: она достанется тому, кто будет дольше всех молчать. Они оба долго молчали, пока не заметили вора у себя в доме. Он набрал много ценных вещей и в последний момент схватил красивое женское платье. Жена, конечно, не смогла молча позволить вору ускользнуть с ее любимым платьем и закричала, проиграв третью лепешку мужу. Шутливая история указывает на то, что механизм соревновательности прочно вписан в контекст китайской культуры, что позволяет этой стране уверенно двигаться вперед. Это движение отражено в рисунках детей о будущем страны.
Подводя итоги анализа роли культуры в становлении китайской государственности, отметим следующие важные моменты. Культура в связке с языком всегда представляла для китайцев важнейший вектор, определяющий развитие нации, являясь «мягкой силой» Китая (Курдюмов, 2022; Маслов, 2021; Nye, 1990). Культура всегда сопровождала и продолжает сопровождать масштабные общественные преобразования в этой стране, позволяя формировать выгодные политические союзы (Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе…, 2022). Размышляя об основах китайской культуры, следует понимать ее как набор разнонаправленных векторов, объединенных общей идей – гордостью за свою страну и народ, населяющий ее. Важнейшей чертой китайской культуры служит агональность – соревновательность, позволяющая с честью преодолевать самые страшные препятствия и лишения, продвигаясь вперед к звездам.
Список литературы Культура Китая как вектор общественных трансформаций
- Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте Индо-Тихоокеанской стратегии США / отв. ред.-сост. Т.М. Мамахатов. М., 2022. 190 с.
- Завьялова Н.А., Цюйань Ю., Ян Ц. Общество потребления в социокультурном аспекте // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2023. № 1. С. 82-87.
- Китайская лингвокультура в современном глобальном мире: коллективная монография / сост., общ. ред., предисл. Ф.А. Леонтович. Волгоград, 2010. 339 с.
- Кошкарова Н.Н., Кожухова И.В. Медиаобраз Китая в российских СМИ // Когнитивные исследования языка. 2023. № 4 (55). С. 436-439.
- Курдюмов В.А. Китайский язык и проблемы философской онтологии // IV Готлибовские чтения: востоковедение и регионоведение Азиатско-Тихоокеанского региона в контексте трансдисциплинарного знания: материалы междунар. науч. конф. / отв. ред. Е.Ф. Серебренникова. Иркутск, 2020. С. 127-134.
- Курдюмов В.А. Типологический облик китайского языка: целостное в деталях // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения: сб. материалов X Междунар. науч. конф. / отв. ред. Е.Н. Малюга. М., 2022. С. 25-29.
- Маслов А.А. Трансформация аналитических центров как элемента «мягкой силы» Китая в 2010-2020 гг. // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2021. Т. 14, № 4. С. 6-22. https://doi.org/10.23932/2542-0240-2021-14-4-1.
- Муратшина К.Г. Деятельность Институтов Конфуция в странах Юго-Восточной Азии // Азиатско-Тихоокеанский регион: вчера и сегодня: сб. ст. М., 2023. С. 240-267.
- Муратшина К.Г. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» в оценках европейских экспертно-аналитических центров (2013-2017 гг.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2018. Т. 23, № 4. С. 131-147. https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2018A12.
- Руженцева Н.Б., Нахимова Е.А. Субъектная организация текста как проявление этнической идентичности носителей китайского и русского языка (на материале портретных очерков) // Филологический класс. 2019. № 1 (55). С. 67-74. https://doi.org/10.26170/FK19-01 -09.
- Усов В.Н. Сто цветов // История Китая с древнейших времен до начала XXI в.: монография: в 10 т. Т. 8. М., 2017. С. 91-98.
- Хабаров А.А., Чудинов А.П., Ян Кэ. Образ Китая в российских и американских СМИ // Политическая лингвистика. 2022. № 2 (92). С. 159-171.
- Юй Линхун. Китаизмы Владимира Сорокина в романе «Голубое сало» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Филология. Журналистика. 2023. Т. 23, № 1. С. 86-90. https://doi.org/10.18500/1817-7115-2023-23-1-86-90.
- Nye J.S. Soft power // Foreign Policy. 1990. No. 80 (153). P. 153-171. https://doi.org/10.2307/1148580.
- Wei-Ming T. The mirror of modernity and spiritual resources for the global community // Sophia. 1995. Vol. 34. P. 79-91. https://doi.org/10.1007/BF02772450.