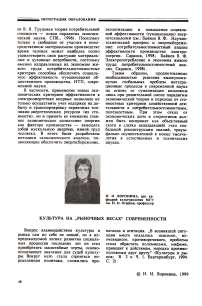Культура на „рыночных весах“ современности
Автор: Воронина Н.И.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Гуманизация и гуманитаризация образования
Статья в выпуске: 1 (13), 1999 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147135251
IDR: 147135251
Текст статьи Культура на „рыночных весах“ современности
Вопрос взаимодействия культуры и рынка сам по себе не новый, но в непредсказуемой логике развития социальных процессов последних лет он стал приобретать масштабные черты, основополагающее значение для судеб культуры. Вокруг него стала строиться определенная политика, сложились про паганда и агитация. „В возникшей ситуации много оказалось неясного, неочевидного, противоречивого, проблема стала обрастать полемиками, мифами, приводит к действиям, нередко противоположным друг другу" (Культура и рынок: В 2 ч. Ч. 1. Екатеринбург, 1994. С. 2).
„Упадок культуры" чаще всего связывают с новым для российского сознания феноменом так называемого „рынка", хотя для нашей культуры традиционным является узкое понимание данного термина и по преимуществу негативное. Этому, может быть, способствует и направленность пословиц: „На рынке ума не купишь", „За ответом не в рынок идти" вошедшие в обиход русского человека.
Рынок культуры сегодня весьма специфичен, что определяется особенностями и самой культуры как важнейшей отрасли социума, и производимых в ней интеллектуальных продуктов, предназначенных, во-первых, для удовлетворения многозначных культурных потребностей населения, а во-вторых, для воспроизводства и развития самого человека. С одной стороны, в сфере культуры начинают работать экономические механизмы, культуре изначально не присущие. Происхо.-дит своеобразная „экономизация культуры" (И. Абелинскене), частный интерес формирует культурные запросы, и по законам рынка спрос начинает определять предложение. В России это наблюдается в больших масштабах и часто проявляется в не совсем цивилизованном виде. На „культурный рынок" выбрасывается массовая псевдохудожественная продукция.
С другой стороны, рынок в современных условиях может предстать, по большому счету, свободной игрой свободных сил, и именно здесь открывается перспектива реализации культурных возможностей человека. И если общество путает свободу со вседозволенностью, то это, скорее, не вина рыночных отношений, а свидетельство неразвитости общественного сознания. Сегодня рынок выступает панацеей решения всех современных проблем. Но какая общечеловеческая идея лежит в основании рынка? Какие общечеловеческие ценности она реализует?
Теория маркетинга утверждает, что рынок объединяет людей в глобальном масштабе. Точнее было бы сказать, что он ведет к утрате этнической специфики в полном объеме этого понятия. Иначе и быть не может, ибо рынок определяется как экономика предпринимательства. Проявляя максимальную „заботу" о покупателе, интерес к его вкусам и запро сам, рынок уравнивает все духовные ценности, нивелируя их, превращая целостного человека в человека-покупателя, утилитарное существо. Рынок интересуется им до тех пор, пока тот способен приобрести товар. Бездушие рынка в его корыстности. Целостный универсальный человек превращается в раба рыночной цивилизации. Наступает век делового человека, которому чужды прежние ценности, ибо на них „нет спроса".
Рынок в его цивилизованном виде понимается не как торговля идеями и культурными ценностями. Рынок есть разумный и трезвый ответ человечества природе. Это — способ самоорганизации культуры. Целостная система механизмов и форм. Безусловно, культура зависима от финансовых проблем. Но если доминантой сегодняшнего общества является кризис финансово-экономический, то, преодолев его однажды, сможем ли мы преодолеть кризис в культуре? Ответ однозначно отрицательный, потому что это не только кризис материального положения культуры в обществе. Есть внутренние процессы в теле культуры. Они рождены рынком, но гораздо опаснее „рыночного феодализма" (Коган Л. Культура „коммерческого феодализма" // Культура и рынок. Ч. 1. С. 149).
В водовороте случайных и закономерных явлений рынка важно попытаться, во-первых, обозначить „силовые поля", пронизывающие это самое тело культуры, определить тенденции ее развития на пороге третьего тысячелетия. Во-вторых, необходимо проверить наши оценки и наблюдения, которые во многих случаях требуют переосмысления, освобождения от стереотипов и заблуждений. В-третьих, нужно определить точки отсчета, масштаб рассмотрения данного явления во времени и пространстве. В-чет-вертых, следует найти пути раскрепощения человека, реабилитации и возрождения его деловых качеств, т. е. пути изменения психологии людей.
Одним из „силовых полей", порожденных рынком, является массовая культура, которая сегодня, в 90-е годы XX столетия, „властвует" в обществе. Оценки ученых данного явления расходятся не только по генетическим или субстанциональным параметрам, но и по психологической направленности. Одни спокойно констатируют существование массовой культуры. Другие взволнованно кричат („Катастрофа!**, „Ужас!4*, „Страх!4*, „Трагедия!44), выражая крайнюю нетерпимость по отношению к ней. Третьи демонстрируют эволюционно-конструирующий подход к оценке этого явления, рассматривая его в соединении логического, культурного, пра-логического, предкультурного в человеческом естестве и его бытие. Словом, оценки обусловлены самим временем — рубежом веков и, соответственно, ломкой стереотипов, эволюцией культурного пространства и среды обитания человека.
Земным диагнозом культурного пространства сегодня является постмодерн. Он предполагает, что все уживается со всем. Отсюда неповторимый, многозначный рисунок всего перемешанного и в науке, и в культуре, и в искусстве. Постмодерн — это не стиль, не направление — это реальность, которая принесла с собой распад целого, воспринимаемый сегодня как „счастливая случайность44 (такого еще не было в истории культуры!). Безусловно, эпоха постмодерна переводит все культурные коммуникации на другой уровень. И значительно повышает роль социологов, которые не просто должны, а обязаны сегодня проникать, изучать, диагностировать и прогнозировать эту земную динамику культурных процессов.
Подчеркнем как особенность нынешнего времени отсутствие эстетической борьбы. Массовая культура в условиях рынка предоставила право на существование самым разнообразным стилям и направлениям, формам и жанрам. В мире массовой культуры на равных соседствуют классика, рок-, поп-, нео-, пост-, Апина, Свиридова, Глазунов, Щедрин, Паворотти, „Ногу свело** и Пушкин... Не случайно в день своего 65-летия в телеинтервью Р. Щедрин сказал: „Сейчас глубокой классической музыкой не заработаешь на хлеб, поэтому я живу в Мюнхене**. Массовая культура находится в пике своей мистификации — каждый день рождаются „звезды** (правда, так же быстро затухающие). С другой стороны, как это ни парадоксально, мы имеем один из резервов высокой культуры, если, конечно, процесс поиска ярких индивидуальностей, личностей направить в подлинное русло, а не в фантастически обманчивое — лишь для „экранного бытия**
В этих условиях продолжается активный процесс массовизации высокой культуры, а в отдельных случаях — слияние культур. Нельзя не видеть грозный симптом этого процесса — высокая культура начинает приспосабливаться к массовой. Так, театры стали ориентироваться на „люмпенизированного** зрителя (Л. Коган) , книжный рынок — на массового читателя, а творческие союзы в лице писателей, композиторов, художников, кино- и театральных режиссеров демонстрируют определенную растерянность перед ситуацией, тонут в мелкотемье. Показательна эволюция Э. Рязанова от „Небес обетованных** к „Предсказанию*4 или Г. Данелия от „Паспорта“ к „Насте**, а также замена интеллектуальных передач на ОРТ на бесконечный поток нелепых игр и череду „мыльных опер**
Не только в столице, но и в небольших провинциальных городах ощущается всплеск „новой волны**, начинается поиск путей общения. Салоны, общества, товарищества, огромное количество выставок, презентаций, расцвет дизайна, декоративно-прикладного искусства выдвинули на арену иного потребителя.
Спонсоры не жалеют денег на красивое, сытное, хмельное („гулять так гулять!44) — это от старой России вошло в плоть и кровь „новых русских4* Но у этого явления есть и другая сторона, которую можно назвать положительной. Вновь появилась потребность в камерном общении, и эта тенденция нарастает. Москва буквально „кишит** афишами о домашних театрах: „Муж и жена**, „Квартира44, „На 5-м этаже**, о художественных ателье, салонах, куда приглашают для общения художников, писателей на диалог о сокровенном, внутреннем (вопросы — ответы, и тут же размышления зрителей — слушателей — читателей). А что может быть более благодатным? „Опыт?! Подражание?! Или размышление?!** (Н. Рерих). Эта, одна из новых точек отсчета в сегодняшней культуре, хотя и значительна, весома, тем не менее тонет в общем потоке массового беспредела.
Мы должны осознать, что речь идет о качественно новом феномене на пороге третьего тысячелетия, принципиально отличающемся в условиях рынка от сово- купности традиционных форм функцио-нирования культуры.
Культура сейчас похожа на гигантский супермаркет. Современная ситуация постмодерна дает право выбора будущего. Никогда такого не было, даже в эпоху Возрождения. Идет парад всех культур, разных (!), где мало своего, но, как в бродильном котле, все смешивается. Это — не самая передовая парадигма, но пафос нескончаемых начинаний и поисков.
Один пример: в 90-е годы появились мультфильмы, в которых герои — японские (черепашки-ниндзя), имена — итальянские (причем, какие! — Донателло, Микеланджело, Рафаэль...), монстры — немецкие (Плинтер), а сделано все в США — вот такой актуальный синтез.
В то же время подчеркнем, что сегодня замечается мифологическая усталость массовой культуры, которая все-таки не отражает, а „заговаривает0 (Д. Дондурей) реальность. Ее код — все ради коммерческого результата. Почему проститутки, убогие, киллеры... заполняют экран („Упырь°, „Мытарь0, ,,Урод°...)? Это нужно идеологам (заказчикам тотального выбрасывания в общество идей, мифологем), а также „плутовской0 экономике. Тем не менее творческая интеллигенция эти идеи обслуживает. Но сегодня массовая культура устала быть культурой неавторской. Потребитель тоже устал и не хочет платить за такую продукцию.
Могут ли быть готовые рецепты в преодолении кризисной ситуации в культуре? Рецептов, наверное, нет, но поиск выхода из нее необходим. Одно из логических положений напрашивается сразу — это процесс гуманитаризации в науке, культуре, образовании.
Чтобы преодолеть бескультурье во всех указанных сферах, необходимо ПО7 вернуть все искомые процессы к человеку.
Наша школа всегда, и сегодня тоже, отдавала предпочтение естественной подготовке перед гуманитарной. Флюс может быть на правой или на левой стороне, но все равно болезнь (К. Прутков). Г Нейгауз, великий пианист и педагог современности, любил говорить, что он готовит человека, а потом художника, музыканта, пианиста. Это до сих пор противоречит нашим образовательным стандартам, в которых первая и самая существенная специализация — профессиональная, узконаправленная. Все остальное — как дополнение, „довесок0 (если хватит на гуманитаризацию времени). „Утилитарность привела к атомическим бомбам. Человечность со всеми гуманитарными достижениями была засажена в чулан — за ненадобностью0, — заметил Н. Рерих (Труд // О Вечном... М., 1991. С. 310).
Вот и приходят в общество „образованные0 специалисты, которые трансформируют систему учреждений культуры в „черную дыру°:
— клубы превратились в многопрофильных монстров (хотя весь мир создает или строит клубы только по интересам);
— тысячные кинозалы сегодня как метастазы в культуре, они нуждаются в реконструкции, но денег на это нет;
— концертная деятельность гибнет из-за несоответствия себестоимости (аппаратура, костюмы, переезды, гостиница) и цены билета возможностям зрителей, которые оставляют залы полупустыми;
— речевая культура „застряла0 на уровне переходного момента 1917 г. 30 — 40 жаргонизмов плюс нецензурная брань — это „нормальный0 словарный запас большинства;
— культура жилища, городской или сельской ауры такова, что дает основания для эпидемиологических заболеваний. В стране „гуляет0 туберкулез, болезнь житейского бескультурья.
Эти примеры бесконечны, они лишь констатируют, что культура сегодня — чудовищное препятствие на пути к цивилизованному рынку. Вся ментальность российского человека пока против рынка. Мы в тисках „чужих0 культур, поклоняемся западным идолам, не можем ответить на множество возникших вопросов. Это еще один кризис — теперь уже мировоззренческий. Он требует перестройки мышления. Говорить точно, думать, мыслить, разъяснять — таково веление времени.
Необходим существенный пересмотр позиций по отношению к сущности самой культуры как феномена, к ее историческому значению и общественной ценности. Любой научный поиск заканчивается выводом, что смысл культуры совпадает со смыслом человеческой жизни, поэтому выяснение любых взаимоотношений культуры, как внутренних, так и внешних, есть выяснение смысла жизни человека. Человек есть абсолютный предмет культуры — ее субъект и объект одновременно, а переход к рынку требует значительных перемен в психологии людей. Причем речь идет не о новой „пе-рековке“ (Г. Онуфриенко) многострадального человеческого материала по очередному социально привлекательному утопическому образцу, а о раскрепощении человека, реабилитации и возрождении его деловых качеств: проницательности, личной инициативы, способности работать, смелости, напористости и т. д. — т. е. всего того, чем отличались ранее российский предприниматель и работник, художник и менеджер (вспомним Дягилева!), не только ни в чем не уступавшие своим западным коллегам, но и во многом превосходившие их.
Глубокие противоречия, существующие в культуре, могут быть преодолены энергичным и целеустремленным общественным действием, тем более что уже сегодня, в конце XX в., намечаются новые срезы — культура контекстов или сочетаний, а информационное пространство позволяет рынку выйти за рамки чисто экономических отношений, становясь частью социальной среды, носителем ценностных ориентаций людей.