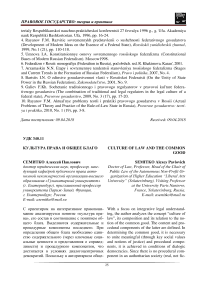Культура права и общее благо
Автор: Семитко Алексей Павлович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 2 (52), 2018 года.
Бесплатный доступ
С ориентиром на интегративное правопонимание анализируется понятие «культура права», его состав и соотношение с понятием общего блага. Выделяются содержательные и процедурные компоненты последнего. При определении общего блага необходимо единство содержательного (через ключевые социальные ценности и представления о справедливости) и процедурного компонентов, что достигается в условиях диалогоцентричных демократий. Поскольку в авторитарном обществе отсутствует процедурный компонент (реально, а не фиктивно), постольку невозможно установить соответствие государственно-властных решений общему благу. В понятие культуры права, вслед за С.С. Алексеевым, включаются идеи и положения современного конституционализма, признание непосредственного юридического значения прав и свобод человека, а также незыблемости определенных юридических реалий, т.е. фактически сложившихся правовых состояний. В результате сделан вывод, что соотношение указанных понятий носит сложный характер, но во всех случаях общее благо должно соответствовать единству входящих в понятие культура права элементов. При этом внутренняя иерархия последних основывается на незыблемости положений современного конституционализма, выражающих идеи правового государства, демократических ценностей, достоинства и прав человека и необходимости соответствия нормативной силы фактического первым двум компонентам культуры права.
Культура права, общее благо, национальные интересы, права и свободы человека, правовое государство, конституционализм, демократия диалогоцентричная, публичная дискуссия, авторитарный политический режим, справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/142232816
IDR: 142232816 | УДК: 340.11
Текст научной статьи Культура права и общее благо
В статье «Демон власти и культура права» [1, с. 516-526], написанной в 1997 году, С.С. Алексеев говорил о «культуре права» как о самостоятельном и важном понятии и явлении, необходимом для построения правового государства и осмысления его основ, а также и в том числе как о средстве ограничения Демона власти. Культура права – это понятие, которое описывает развитое право – то, каково оно само по себе. Данное понятие требует внимательного изучения, особенно в связи с категорией правового государства, ибо «о действительном правовом государстве можно говорить лишь тогда, когда в обществе существует высокая культура права» [1, с. 523], которая позволяет не только блокировать Демона власти юридическими ограничениями, запретами, санкциями, но вытеснить и, в конечном счете, повергнуть его при помощи «тех великих ценностей, которые несет всякая высокая культура, тем более – Культура права, – отлаженными цивилизованными человеческими взаимоотношениями, выверенной справедливостью, балансом интересов и согласия, признанием юридических реалий, неприятием насилия и одностороннего диктата» [1, с. 523]. Однако, продолжал далее С.С. Алексеев, «в последнее время мы, собравшись на тот или иной форум, как-то легко и быстро стали принимать решения на разных уровнях с одной лишь ссылкой на “волю избирателей”, “национальные интересы”, зачастую не считаясь с действующими юридическими нормами» [1, с. 524]. Каковы они, эти «национальные интересы», «воля избирателей» и т.п. общее благо, и каково их соотношение с таким понятием, как «культура права»?
Для ответа на данный вопрос надо уточнить состав последнего, куда С.С. Алексеев, основываясь на самых последних – интегративных – достижениях в области современной правовой науки, включал, подчеркивая, что перечень этот – не исчерпывающий, во-первых, «святость Конституции», то есть признание и уважение основных идей современного конституционализма, нашедших отражение в Основном законе страны (что вытекает из современного, базирующегося на уважении идей правового государства, демократических ценностей и достоинства человека, позитивистского подхода к правопониманию), а также, во-вторых, признание непосредственного юридического значения прав и свобод человека (чего требует юснатура-листское видение права) и, в-третьих, незыблемости определенных юридических реалий, т.е. фактически сложившихся правовых состояний (юридическая сила более или менее устоявшегося и продолжительного по времени фактического состояния общественных отношений, внедрившегося в жизнь положения дел, с которым субъекты уже сообразовали свои интересы, то есть признали их в той или иной мере, что вытекает из социологического видения права).
Что касается фактически сложившихся правовых состояний, то, несмотря даже на весьма важный факт продолжительности их существования, они не могут претендовать на «вечность», то есть могут меняться. Однако процедура их изменения – особенная: либо принятие «компетентным органом конституционно обоснованного законодательного акта (с предусмотренными им механизмами урегулирования сложных случаев, удовлетворения всех законных интересов), либо принятие аналогичного акта полномочной судебной инстанцией, либо достижение соглашения между заинтересованными субъектами» [1, с. 526]. Кроме того, процесс изменения должен быть согласован с другими входящими в культуру права ценностями – святостью Конституции, то есть с соблюдением основных идей конституционализма и с незыблемым авторитетом прав человека. Любые односторонние действия без такого согласования будут рассматриваться как нелегитимные, неправовые, влекущие за собой «произвол и хаос в обществе, стихию эмоций и насилия и плюс к тому – как это ни покажется неожиданным, в жизнь людей вновь врывается Демон власти, выскользнувший из-под эгиды Права» [1, с. 526]. Такого рода односторонние действия не могут быть оправданы политическими декларациями «демократического или национального порядка», то есть никакими соображениями, вытекающими из общего блага, «воли избирателей» и «национальных интересов», так как квалификация той или иной политической акции как отвечающей общему благу требует особой процедуры их выражения и утверждения. Общее благо, с формально-юридической точки зрения, может быть выражено в акте конституционного законодателя, в судебном решении высшей судебной инстанции (в форме, например, акта конституционного контроля и т.д.) либо в нормативном договоре – соглашении между заинтересованными субъектами. Определение общего блага по содержанию – вопрос гораздо более сложный, зависящий от разделяемой в данном обществе концепции общего блага и представлений о справедливости [2].
В связи со сказанным возникает вопрос для дальнейшего размышления: каково соотношение общего блага («национальных интересов») и базирующемся на правах человека юридическом инструментарии при решении возникающих в обществе проблем и конфликтов? Достаточно ли сослаться на общее благо, волю избирателей, национальные интересы и т.п. ценности при принятии новых конституционных актов, судьбоносных судебных решений, нормативных договоров либо необходимо всегда придерживаться указанного юридического инструментария, основанного на правах человека, которые в таком случае оказываются сами по себе важнее и выше общего блага и «национальных интересов»? Или еще короче: выше ли и важнее ли общего блага права человека? Либо, что напрашивается само собой и кажется вполне очевидным: данный вопрос сам по себе не корректен, так как права человека не могут быть исключены из важнейшей части того, что относится к общему благу, к незыблемым положениям современного конституционализма, выражающих идеи правового государства, демократических ценностей и достоинства человека. Таким образом, права человека как ценность входят в систему
идей конституционализма и поэтому можно говорить об их приоритете только вместе и наряду с приоритетом конституционализма как системы, но не о приоритете одного компонента системы самой системе в целом. Что касается нормативной силы фактического, то она должна соответствовать первым двум компонентам, входящим в культуру права и общее благо выражено в последней, то есть оно не должно противоречить культуре права.
Если говорить далее о соотношении общего блага и наличного законодательства, устоявшихся фактических отношений при решении важных социальных проблем, то их реальное соотношение зависит от уровня развития и, скажем так, укорененности культуры права и демократии в каждом конкретном обществе. Так, в условиях демократии общее благо, которое еще не выражено в законе, – лишь предмет для публичных дискуссий различных политических сил, в результате которых поддержанные большинством избирателей и потому пришедшие к власти в процессе честных демократических выборов политические силы закрепляют общее для всех благо в законе; хотя и после этого никто не препятствует его дальнейшему обсуждению, уточнению и внесению соответствующих изменений в законодательство.
Однако после того, как общее благо закреплено в законодательных и (или) иных источниках права, имеющих конституционную силу, то в результате этого уточняются одновременно и границы тех или иных фактических юридических состояний, а также соответствующего данному историческому моменту времени объема прав и свобод человека. Корректно сформулированное в правовых текстах общее благо в цивилизованном обществе начала XXI века не может не включать в себя определенного уровня прав и свобод человека, ориентиром для которого выступает международный билль о правах человека как совокупность основных международных документов – Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах, Первый и Второй факультативный протокол к нему. Для государств европейского континента, включая Россию, расположенную на двух континентах, невозможно не ориентироваться на Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Процесс возведения различных социальных интересов в правовую форму в условиях демократического общества содержит важнейшую стадию проверки соответствия (или, как минимум, не противоречия) их общему благу. В условиях авторитарного политического режима под видом общего блага чаще всего протаскивается воля узкой олигархической верхушки Положение о том, что «общая воля» есть определенная фикция давно уже стало общим местом политологической литературы, в том числе учебной, где, например, отмечается, что «так называемая общая воля, «классовый», «национальный» или «общенародный» интересы представляют собой вымысел, миф , (выделено мной. - А.С .) оправдывающие политическое господство одного лица или группы в том случае, если они определяются кем-то априори, без равноправного участия отдельных свободных личностей и рассматриваются как неоспоримые, надындивидуальные, внутренне непротиворечивые сущности, устанавливающие рамки дозволенного для политической активности граждан, границы демократии» [3, с. 165]. Однако это делает излишним публичные общественные дискуссии об определении разделяемых подавляющим большинством общества представлений о справедливости и иных социальных ценностях, которые в своей основной части и могут быть определены как «общее благо». Последняя чисто теоретически может иногда и совпадать с тем, что определило бы гражданское общество в ходе демократического обсуждения, но может и не совпадать. В условиях авторитаризма обычно достаточно легко организуется видимость «всеобщей» поддержки и одобрения деятельности госаппарата и «политики партии» и, стало быть, за «общего благо» здесь могут выдаваться восторженные возгласы «широких» масс, специально организованных нанятыми для этого в рамках соответствующего «госзаказа» работниками – агитаторами, журналистами и иными лицами с высшим, как правило, образованием, которые по контролируемым государством телевизионным и иным каналам, через Интернет и прочие
СМИ представляют псевдо всеобщее благо как благо якобы реально всеобщее. И если этому благу противостоят права человека, то тем хуже для последних по существу, хотя такое заключение может быть не всегда открытым и прямолинейным по форме.
Таким образом, что, когда и в каких случаях совпадает с общим благом, а что – с ним не совпадает, в авторитарном обществе с методологической точки зрения знать невозможно, так как нет верифицирующих демократических процедур в виде выборов и (или) референдумов. Понятно, что мнение правителей и их приспешников никогда не может заменить собой общую волю или общее благо. Это последнее может и должно быть определено только самим обществом каждый раз и по каждому конкретному, но, разумеется, очень важному поводу, а не по каким-то анекдотическим пустякам, не имеющим никакого значения для государственной власти и по которым она в таком случае может позволить смело поиграть с обществом в «демократию».
Любой субъект принятия важных социальных решений – будь то общество в целом либо единоличный авторитарный правитель, либо, наконец, некая олигархическая группировка – никогда не застрахован от ошибок, в том числе и при использовании в первом случае реальных – честных, состязательных – демократических процедур принятия решений. Однако в первом случае, в рамках диалогоцентричной (делиберативной, коммуникативной, дискурсивной, разумной, состязательной и т.д.) [2, с. 370-372, 410-411] демократии, которая складывается в персоноцентристских государственно-правовых системах, появляется возможность осмыслить публично весь спектр имеющихся в обществе мнений и выражающих их интересов и принять в итоге более взвешенное решение. И, тем не менее, когда даже в результате публичной дискуссии принимается не самый лучший вариант из всех реально имеющихся на каждый момент времени, то здесь есть шанс на более быстрое исправление ошибок в будущем. В любом случае общество само будет «расплачиваться» за результаты своих собственных неверных решений, либо за резкое изменение обстоятельств, которые делают прежние решения не совсем адекватными переживаемому моменту времени. В случае же ошибок авторитарного субъекта, который имеет часто весьма искаженное представление о том, что происходит в обществе на самом деле, «платить» за них приходится не субъекту принятия решений (как в предыдущем случае), а – другим людям, то есть всему обществу. Да, и исправление подобных ошибок может затягиваться на гораздо больший период времени, так как правители и тем более их приспешники, которые чаще всего и протаскивают выгодные им решения под видом «национальных интересов» далеко не всегда склонны к признанию собственных ошибок (либо умышленно принятых и вредных для общества решений, которые выражают интересы узкого круга людей в противовес интересам всего общества), что может, в конце концов, привести весь социальный организм к краху.
Разумеется, что история знает случаи успешных авторитарных режимов, однако в условиях современного сверхсложного мира, с одной стороны, и более развитого в культурном, политическом и иных отношениях населения, с другой, во многих регионах мира шансов на успех гораздо больше в обществах демократических, чем в системах авторитарных. Это – более чем очевидно хотя бы потому, что лидирующие в мире по уровню жизни населения, по уровню безопасности личности, а также гарантиям прав и свобод человека и гражданина и прочим подобного рода параметрам страны (входящие, например, в Большую семерку), относятся к государствам демократическим, а не к авторитарным.
Общее благо – понятие, формулирующее естественную цель политической жизни [4, с. 57]. Общее благо – это весьма абстрактная и очень сложная концепция. Реально она распадается на десятки, сотни, а то и больше конкретных решений по самым разным, но очень важным поводам (если брать поводы менее важные, то количество таких решений будет, с одной стороны, стремиться к бесконечности, а с другой – в какой-то момент уже перестанет быть всеобщим и преобразуется в региональные, групповые и т.п. интересы и блага). Но все они должны соответствовать ключевым ценностям, которые являются критерием для опреде-

ления общего блага в данном обществе: например, равного уважения ко всем лицам, справедливости как честности, о которой писал в свое время Джон Ролз [5, с. 532], или каким-то иным, близким к указанному подходу, ценностям, существующим в данном обществе и воспринимаемым населением как справедливые. О том, что те или иные субъекты приняли решение, действительно соответствующее общему благу, нельзя судить всегда с полной определенностью ни сразу, ни во многих случаях и потом, так как мы не можем быть уверены, что оно адекватно воплощалось в жизнь, что не возникли новые факторы, делающие вчерашнее, представляющееся благим, решение скорее вредным для общества решением, чем полезным и т.д. Кстати, успешные авторитарные режимы могут быть таковыми не благодаря, а вопреки политике авторитарного правителя либо благодаря факторам, никак не связанным с деятельностью авторитарного режима (например, благоприятная конъюнктура, высокие цены на энергоносители и т.п.). Поэтому квалификация некоторого интереса, решения, действия и т.п. как соответствующего общему благу имеет во многом процедурный характер за исключением общепринятых и бесспорных для всего общества содержательных ценностей (фундаментальных прав и свобод человека, требований конституционализма, длительно функционирующих и устраивающих практически все общество исторически сложившихся фактических правовых ситуаций и т.п.).
Поскольку концепция общего блага имеет очень важный формально-процедурный аспект, в соответствии с которым можно лишь презюмировать, что в случае, когда процедура принятия решения восходит своими истоками к честному демократическому выбору (главы государства, парламентариев, других институтов публичной власти и (или) каких-то конкретных концепций развития по важным поводам), тогда принятое в рамках такой процедуры решение отвечает общему благу. С этой – процедурной – точки зрения один человек – правитель – или узкая олигархическая группировка не могут провозглашать общие интересы по определению. Однако поскольку при определении общего блага задействованы два критерия – процедурный и содержательный (и опять же, скорее, формально-содержательный, закрепленный в Конституции), постольку авторитарный режим гипотетически тоже может, по случайности или по исключению, принимать решения, отвечающие общему благу. Правда, квалификация таких его действий в качестве соответствующих общему благу крайне затруднена, а, точнее, почти исключена, ибо в нашем понимании общего блага (как выражающего реальные ценности, с одной стороны, и процедуры определения этих ценностей в каждом случае) здесь не хватает процедурного компонента. Разумеется, возможны ситуации, в которых общее благо является явным, очевидным и понятным для всех без процедуры его определения в качестве такового, что бывает не так уж и часто в ситуации сложных социальных отношений и постоянной борьбы разных групповых интересов и соответствующих им языковых практик, то есть в определении того, что важно для социума, а что – нет.
Общее благо при наличии минимально необходимых содержательных компонентов формулируется только в адекватных ему процедурных формах, и поэтому авторитарная власть может лишь выдавать свои собственные интересы за «общее благо» даже когда есть какие-то содержательные совпадения с общими интересами. И такая власть вынуждена постоянно проводить пропагандистскую работу по «промыванию» мозгов обществу, без чего она не может рассчитывать на легитимность, и поэтому тогда, когда оппозиция говорит простые и очевидные для всех вещи, которые больше соответствуют общему благу, но не отвечают интересам власть имущих, последние стремятся «заткнуть ей рот», обвиняя оппозицию в стремлении разрушить или, еще хуже, «продать» Родину врагу, организовать очередной Майдан, развратить молодёжь и т.д., и т.п.
Концепт «общего блага» в условиях авторитаризма используется как инструмент подавления оппозиции и ограничения активности гражданского общества, как средство уничтожения открытой и честной публичной дискуссии, которая необходима для того, чтобы с ее помощью был найден общественный консенсус по поводу содержания и конкретного выражения действительного общего блага в каждой отдельной взятой области важнейших общественных отношений. Ибо просто так, т.е. безотносительно к какой-либо конкретной сфере отношений, к конкретному периоду в истории общества, географическому региону и массе других конкретизирующих «привязок», общее благо существовать не может: без таких уточнений оно превращается в пустую абстракцию и благое пожелание, чтобы «все было хорошо» (а что такое «хорошо», зависит от позиции субъекта оценки и от его интересов).
В условиях авторитаризма концепт «общего блага» необходим государственной власти для того, чтобы верхушка олигархического режима, присвоившая себе право определения его конкретного содержания, говорила обществу, в чем именно состоит это «общее благо», а если кто-то не согласен с таким его определением, то его преследуют за то, что он, оспаривая «общее» благо, наносит вред всему обществу, занимает экстремистские позиции, угрожая тем самым самому существованию государственности. Отождествление интересов общества и государства – ключевой признак авторитаризма и его «интеллектуальных телохранителей» (данное словосочетание Д. Боуз использует для наименования интеллектуалов, прославляющих государственный аппарат, его верхушку) [6, с. 228-229]. И здесь авторитарной власти, разумеется, сильно мешает идея непосредственного юридического значения прав и свобод человека (или их приоритета перед интересами госаппарата), которая требует соблюдения как процедурного компонента в определении общего блага – демократического обсуждения его содержания и таким образом реального участия населения в решении государственных дел через имеющиеся конституционно-правовые механизмы, так и соблюдения содержательных параметров при определении и конкретизации этого общего блага. Конечно, организация публичного дискурса в условиях реальной демократии и процесс согласования интересов различных субъектов гражданского общества – задача очень трудная. Это все равно, что дирижировать большим симфоническим оркестром в процессе исполнения им сложной партитуры в противоположность одиноко звучащему в публичном пространстве барабану авторитарного правителя, под удары которого, строго определяющие границы «общего» интереса, должно дружно маршировать благодарное своему правителю общество.
«Общее благо» в условиях авторитарного общества, независимо от того, выражено оно авторитарной властью в законе или нет, является, по преимуществу, лишь чистой фикцией, демагогией, подменой общих интересов интересами правящей олигархической группировки. «Общее благо» здесь, как уже отмечалось выше, даже и не может быть точно известно, так как отсутствуют процедурные механизмы его определения (в каком случае оно имеет место, а в каком – нет, можно только гадать) за исключением явных случаев и (или) случайного совпадения.
Прав Ф. Хайек, который писал, что «хоть и понятно, что общий, или общественный, или публичный характер законных целей правительственной власти подчеркивается, чтобы исключить ее применение в частных интересах, размытость используемых терминов позволяет почти все, что угодно, объявить предметом общего интереса и заставить очень многих служить целям, в которых они никак не заинтересованы. До настоящего времени не удавалось точно определить, что такое благосостояние общества или благо государства, а потому эти понятия можно наполнить любым содержанием, лишь бы оно отвечало интересам правящей группы» [7, с. 169-170]. Без ограничения государственной власти правами человека и вытекающими из них демократическими процедурами она начинает действовать в своих собственных интересах, выдавая их за «общее благо».
То, что в условиях авторитарного общества хорошо видно и вполне понятно – в условиях демократического режима определить гораздо труднее: ту же манипуляцию общественным мнением электората со стороны правящих политических элит, например, или одинаковые ссылки народных избранников, отстаивающих противоположные ценности, на интересы народа, «общее благо» (когда понятно лишь то, что противоположные ценности не могут од-
новременно составлять это благо) и т.д. С.С. Алексеев имеет в виду именно эти – не менее серьезные опасности, возникающие также и в условиях демократического общества, противостоять которым по этой причине труднее, когда он говорит, что «мы, собравшись на тот или иной форум, как-то легко и быстро стали принимать решения на разных уровнях с одной лишь ссылкой на “волю избирателей”, “национальные интересы”, зачастую не считаясь с действующими юридическими нормами» [1, с. 524], а на самом деле, как это становится понятно из дальнейшего изложения, не считаясь с культурой права, то есть с более глубинными правовыми и социальными основаниями при принятии тех или иных государственных решений, тех или иных важнейших правовых актов, к каковым (правовым основаниям) С.С. Алексеев относит основы конституционализма («святость Конституции»), права человека и исторически сложившиеся фактические правовые ситуации.
Действительно, в условиях демократии недостаточно одного лишь процедурного определения национальных интересов, воли избирателей или общего блага, что и имел в виду С.С. Алексеев в процитированных выше положениях, необходим постоянный ориентир и на содержательные и формально-содержательные ценности, входящие в культуру права. Очень образно о подобных опасных для прав человека ситуациях, могущих возникнуть даже в условиях демократии – сказал еще Алексис де Токвиль в своей книге «Демократия в Америке»: если власть большинства станет абсолютной, т. е. не будет подчиняться моральным принципам справедливости и правам граждан, то люди столкнутся с новой логикой рабства, суть которой лишь в том, что вместо единовластного деспота они получат деспота коллективного и «что касается лично меня, – пишет далее А. Токвиль, – то, ощущая на своей голове тяжелую десницу власти, я мало интересуюсь конкретным источником моего угнетения и отнюдь не более расположен подставлять свою шею под хомут лишь потому, что мне протягивают его миллионы рук» [8, с. 324]. Другими словами, любая власть, в том числе и демократическая, а не только авторитарная (а она – в первую очередь) при определении ею «общего блага», «национальных интересов» должна быть ограничена Правом или более точно правами человека и в целом теми основаниями, которые С.С. Алексеев включает в культуру права для того, чтобы избежать в обществе хаоса и произвола, стихии эмоций и насилия как явных антиподов указанной культуры.
Список литературы Культура права и общее благо
- Алексеев С.С. Демон власти и культура права / Собрание сочинений в 10 томах. Том 4. Линия права. Концепция. Сочинения 1990-х -2009 годов. М.: Статут, 2010.
- EDN: QRWSZB
- Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. М.: Изд. дом Гос. ун-та -Высшей школы экономики, 2010.
- EDN: QOLHMT
- Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. 2-е изд. М., 1995.
- Касимов Т.С. Православные концепции будущего государства в современной России/Правовое государство: теория и практика. 2015. № 1 (39). С. 56-60.
- EDN: TWGFRF
- Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд НГУ, 1995.
- EDN: YJOIQD
- Боуз Д. Либертарианство: история, принципы, политика. Челябинск: Cato Institute, 2004.
- Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. Современное понимание либеральных принципов и политики. М.: ИРИСЭН, 2006.
- Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992.