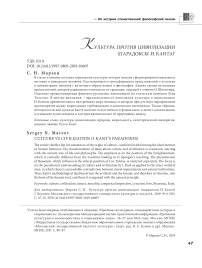Культура против цивилизации (парадоксы И. Канта)
Автор: Мареев С. Н.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Из истории отечественной философской мысли
Статья в выпуске: 6 (92), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье уточнена ситуация зарождения культуры, которая связана с формированием идеальных мотивов в поведении человека. Рассматривается трансформация представлений о культуре и цивилизации, начиная с античного образа жизни и философии. Акцент сделан на позиции просветителей, которая радикально отличается от традиции, ведущей к учению О. Шпенглера. Отдельно проанализирован феномен руссоизма, повлиявший на этическую позицию Льва Толстого. В центре внимания - парадоксальность понимания культуры и цивилизации И. Кантом применительно к внутреннему миру человека, в котором присутствует неразрешимое противоречие между моральными требованиями и животными влечениями. Таким образом, методологический дуализм Канта загоняет искусственное и формальное, а значит, цивилизацию, в основание души человека и там противопоставляет её природному началу.
Культура, цивилизация, природа, моральность, категорический императив, цинизм, любовь, руссо, кант
Короткий адрес: https://sciup.org/144160860
IDR: 144160860 | УДК: 101.9 | DOI: 10.24411/1997-0803-2019-10605
Текст научной статьи Культура против цивилизации (парадоксы И. Канта)
Мир культуры начинается там, и пусть возмущаются эстеты, где наш далёкий предок изготовил первое каменное рубило, которого Ж. Деррида в другом контексте именует «Фалесом каменного рубила». Та- кие орудия труда находятся в так называемом культурном слое, который отличается от природы. Здесь лежит принципиальное различие между предметом геологии и археологии. И если мы откажемся от разговора о первых орудиях, то постоянно будем путать изделия из камня с самими камнями. Но археология их не путает и не отождествляет, поскольку иначе была бы невозможна сама эта наука. Да и все другие науки о культуре.
Благодаря Цицерону мы многое узнаём о греческой философии, которая была само-рефлексией греческой культуры. Сократ, которого Маркс назвал «воплощённым философом», со всей определённостью заявил, что его уже не интересует природа – звёзды, планеты, Луна, Солнце. А что же его заинтересовало? Его интересовала «совесть», «справедливость», «добро», «истина», «красота», «мужество» и другие подобные вещи. У греческого «культуролога» Сократа вопрос о происхождении культуры также оказался завязан на то, что есть добродетель и зачем её возделывать в душах людей.
Здесь нужно отметить, что культура греков была более демократической, чем культура римлян. Все свободные граждане греческого полиса были приобщены к миру культуры и его созиданию. Но при этом греки противопоставили себя как культурный народ варварам. И варварство с тех пор стало синонимом бескультурья. Граница между культурой и тем, что не является культурой, у греков проходит за пределами их собственного мира. Но у римлян этот раскол, эта граница между культурой и бескультурьем проходит уже внутри самого римско- го общества. Даже в своей среде Цицерон и его современники видели почву для противопоставления cultus и vulgus. К первым Цицерон относил своё аристократическое окружение, которое непрестанно совершен- ствовало ум и душу, подчас нарочито демонстрируя духовную сложность и необычайную изысканность. Ко вторым Цицерон относил «грубую и беспорядочную толпу», или чернь, с её примитивными нравами – увлечением цирковыми представлениями и боями гладиаторов.
Раскол общества на культурные верхи и некультурные низы, по существу, продолжается до сих пор. Но и в наших условиях культура верхов также приобретает извращённый характер. Поздний Рим уже знал все виды извращений, в том числе половых, которыми так богата современная западная «культура». Раннее христианство во многом было реакцией на такое извращение, и эта реакция во многом строилась на идеализации простеца . Извращение культуры ведёт не к отрицанию, а к идеализации природы, натуры. Вспомним Тертуллиана, который считал, что душа варвара больше открыта для христианской веры и пути в Царство Божие, чем душа образованного римлянина. Ситуация, таким образом, оборачивается, и если у Цицерона преимуществом обладает культурный римлянин перед примитивным плебеем, то у христианина Тертуллиана преимущества уже на стороне варвара, по сравнению с извращённой культурой, которую он отождествляет с культурой вообще [8].
Но сколько бы христианство ни бичевало «вавилонскую блудницу», как неизменно именовали христиане Рим, оно не победило извращения и развращения культуры, на что продолжают указывать проницательные философы, в частности французский просветитель Ж.-Ж. Руссо, у которого вар- вары также обладают преимуществами перед его современниками, поскольку общественное развитие не означает совершенствования человека. Именно Руссо в явном виде указывает на противоречивую суть общественного прогресса. На пути прогресса у Руссо уже обнаруживается то, что развитие в одном может сочетаться с деградацией в другом. И этим позиция Руссо отличается от того, что утверждали другие французские просветители, у которых цивилизация, безусловно, есть венец культуры. Но у Руссо в цивилизации уже присутствует момент вырождения более совершенного, чем у него оказывается природное начало в человеке. В этом – особенности руссоизма, к которому, в частности, тяготел гениальный писатель Лев Толстой [7]. Франция, как известно, в те времена ещё задавала всем образцы для подражания, в том числе России, где французский язык был обязателен для дворянской верхушки, а по-русски говорили лишь «мужики». И в силу этого противостояния выбор между культурой и натурой обретал у нас вполне зримый, если не практический, характер – от «почвенничества» до «народничества».
Если для руссоиста культура тождественна цивилизации на почве своей ущербности, в сравнении с природным состоянием человека, то в иных трактовках культура является антиподом цивилизации как раз в силу своего гармонического характера. Сама действительность усугубляла противоречивый характер общественного развития, что в конце ХIX – начале ХХ столетий приняло форму противоречия между «культурой» и «цивилизацией», наиболее явно выраженного в «Закате Европы» Освальда Шпенглера. Культура более совершенна, чем её моральное, духовное и творческое вырождение – цивилизация. Но уступает ли она природе?
***
Известно, что И. Кант выступил с довольно серьёзной критикой книги И. Гердера «Идеи к философии истории человечества» [1], в которой культурология как бы перемешана с антропологией. Гердер не отделяет естественно-природное развитие от общественно-исторического развития, и человеческая история у него начинается с образования Солнечной системы и планеты Земля. Если бы он жил в наши дни, то всё, наверное, началось бы с «Большого взрыва».
Кант, критикуя И. Гердера, видит явные преимущества в философии истории Ж.-Ж. Руссо, противопоставлявшего культуру и природу. «И Руссо, – пишет Кант, – вовсе не так уж неправ, предпочитая состояние диких, коль скоро упускают из виду последнюю ступень, на которую нашему роду ещё предстоит подняться. Благодаря искусству и науке мы достигли высокой ступени культуры . Мы чересчур цивилизованы в смысле всякой учтивости и вежливости в общении друг с другом. Но нам ещё многого не достаёт, чтобы считать нас нравственно совершенными . В самом деле, идея моральности относится к культуре; однако применение этой идеи, которое сводится только к подобию нравственного в любви, к чести и во внешней пристойности, составляет лишь цивилизацию» [3, с. 23].
Как мы видим, здесь Кант также разводит «культуру» и «цивилизацию», обозначая тем самым ещё одну сторону проблемы. У Канта на излёте Просвещения цивилизация оказывается вырожденным и искусственным состоянием человечества, поскольку она означает всякого рода учтивость, не совпадающую с моральностью. А. Шопенгауэр впоследствии назовёт это «формальной вежливостью», которая не выражает подлинного отношения человека к человеку и, по сути, есть лицемерие .
Что касается подлинной культуры, расцвет которой Кант относит в будущее, то она, в кантовском понимании, есть «моральность» и «нравственное совершенство». Таким образом, Кант переводит культуру во внутренний план личности, противопоставляя её внешней пристойности. Нечто подобное сейчас называют «духовностью», но последнее часто отождествляют с религиозностью, что Кант не имел в виду, когда говорил о «моральности». В его представлении о моральности нет ни грана мистики, как, впрочем, и того, что именуют высшими духовными чувствами.
И тут обнаруживается противоречивость собственной позиции Канта, у которого моральный закон имеет сугубо формальный характер. Хорошо известно, что никакой закон не удержит человека от преступления, если у него нет совести . Но нравственное чувство, то есть совесть, совсем не то же самое, что категорический императив. Высшие духовные чувства – совесть, чувство долга, эстетическое чувство, любовь и другие – есть подлинные выражения культуры как способа жизни человека, которые деградируют в состоянии цивилизации. Но кантовский ригоризм означает, что не может быть моральным поступок, который был совершён согласно какой-либо чувственной склонности.
Кто внимательно читал Канта, тот мог заметить, что в его моральной системе мало места для такого духовного чувства, как любовь. Но зато много места для характеристики полового влечения. «Сильнейшие естественные импульсы, – пишет Кант, – которые выступают вместо незримо ведущего весь человеческий род к физическому благополучию высшего разума (правителя мира), не допуская содействия человеческого разума, – это любовь к жизни и половая любовь » [2, с. 313].
Последнее означает, что внутри индивида, согласно Канту, с одной стороны, моральные требования, а с другой – животные влечения. А в результате Кант оказывается в щекотливом положении. «Сколько усилий испокон веку, – пишет Кант, – затрачивалось на то, чтобы набросить тонкую пелену на то, что хотя и даёт наслаждение, но настолько свидетельствует о близком родстве человека с животными, что вызывает стыд и не позволяет открыто говорить об этом в хорошем обществе; правда, прозрачные намёки, вызывающие улыбку, не возбраняются. Воображение может здесь в своё удовольствие блуждать в потёмках, и требуется немалое искусство для того, чтобы, не вдаваясь в цинизм , избежать опасности смешного пуризма » [2, с. 152–153].
Цинизм и пуризм – две крайности. Циник идёт на поводу у влечения, пурист всё естественное в человеке огульно отрицает. А сходятся они на том, что любви нет. Для них попросту не существуют Ромео и Джульетта, которыми мы восхищаемся, поскольку они любили друг друга не как животные, а как люди .
Если верить тому, что здесь пишет Кант, то великие произведения о любви – только «тонкая пелена», скрывающая животное внутри человека. А потому так цинично кантовское определение брака . «Половое общение по закону, – пишет он, – есть брак (matrimonium), то есть соединение двух лиц разного пола ради пожизненного обладания половыми свойствами друг друга» [4, с. 305].
Мораль и животность у Канта соседствуют и противоборствуют внутри человека. А в результате кантовский дуализм превращает нашу свободу в ситуацию выбора между распущенностью и репрессией. И там, где происходит радикальный отказ от чувственного, что в его понимании совпа- дает с животностью, у Канта вдруг рождается идеальное, хотя он сам понимает «волшебство» такого перехода. «Отказ, – пишет он, – и был тем волшебным средством, превратившим чисто чувственное влечение в идеальное, животную потребность – в любовь, ощущение, просто приятное, – во вкус к красоте сначала в человеке, а затем и в природе. Скромность, то есть склонность к тому, чтобы хорошим поведением (сокрытием того, что могло бы вызвать презрение) внушать другим уважение к себе как необходимое основание всякого настоящего общения, дала, кроме того, первое указание к воспитанию человека как нравственного существа» [5, с. 76–77].
Дуализм есть дуализм. А потому и в данном случае у Канта одна крайность сменяет другую. По сути, здесь опять естественное сменяется искусственным, когда отказ от природного влечения порождает показную скромность. Волшебна лишь попытка выдать такую само-репрессию за собственно идеальное.
На деле репрессия как раз и рождает на каждом шагу лицемерие. И потому та скромность, которую Кант вынужден выдавать за моральность, ближе к тому, что он именует «цивилизацией», а не «культурой». Ведь культура есть снятие природы в том гегелевском смысле, который означает, что природное погружается в основание нашего поведения и преображается его идеальными мотивами. Канту ещё неизвестна идея диалектического снятия, когда человек обретает свободу, не игнорируя, а под- чиняя себе природу, придавая своей жизнедеятельности культурное содержание и направленность. И любовь в таком случае не просто антипод природных устремлений, а их идеализация внутри собственно человеческого поведения. Любовь, в отличие от полового влечения как материального, есть высшее духовное и идеальное чувство человека. И только любовь является его оправданием [6].
Таким образом, методологический дуализм Канта загоняет искусственное и формальное, а значит цивилизацию, в основание души человека и там противопоставляет природному началу. Цивилизация оказывается неотделима от сущности человека, и в этом принципиальное отличие Канта от Руссо. Всё это является отражением того реального противоречия, в котором движется до сих пор «гражданское общество». Кантовский императив «человек всегда цель и никогда средство» – сердцевина культуры, но тот же Кант, констатируя противоречие между «культурой» и «цивилизацией», тут же стремится его сгладить, связывая его разрешение с идеалом «правового государства».
Противоречивость представлений о культуре и природе, культуре и цивилизации от античности до наших дней отражает тот факт, что сам общественный прогресс до сих пор подобен тому Молоху, который, по словам Маркса, хочет пить нектар не иначе, как из черепов убитых. И это не позволяет ясно видеть тот путь, который и выведет нас из цивилизации в культуру.
Список литературы Культура против цивилизации (парадоксы И. Канта)
- Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / пер. и примеч. А. В. Михайлова; [АН СССР]. Москва: Наука, 1977. 703 с.
- Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Собрание сочинений: в 8 томах: юбилейное издание 1794-1994: [перевод с немецкого] / под общ. ред. А. В. Гулыги. Москва: ЧОРО, 1994. Том 7. С. 137-376.
- Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Собрание сочинений: в 8 томах: юбилейное издание 1794-1994: [перевод с немецкого] / под общ. ред. А. В. Гулыги. Москва: ЧОРО, 1994. Том 8. С. 12-28.
- Кант И. Метафизика нравов // Собрание сочинений: в 8 томах: юбилейное издание 1794-1994: [перевод с немецкого] / под общ. ред. А. В. Гулыги. Москва: ЧОРО, 1994. Том 6. С. 224-540.
- Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории // Собрание сочинений: в 8 томах: юбилейное издание 1794-1994: [перевод с немецкого] / под общ. ред. А. В. Гулыги. Москва: ЧОРО, 1994. Том 8. С. 72-88.
- Мареев С. Н. От Канта и Кассирера к Ильенкову: проблема идеальности человеческих чувств // Вопросы философии. 2009. № 9. С. 142-152.
- Розанов М. Н. Ж.-Ж. Руссо и литературное движение конца XVIII века и начала XIX века: Очерки по истории руссоизма на Западе и в России. Том I. Москва: Тип. Московского университета. 1910. 559 с.
- Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс О душе = De Anima / пер. с лат., вступ. ст., коммент. и указ. А. Ю. Братухина. Санкт-Петербург: Изд-во Олега Абышко, 2004. 254 с.