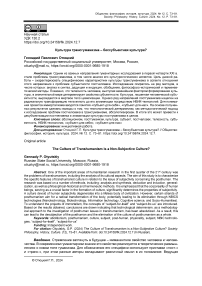Культура трансгуманизма - бессубъектная культура?
Автор: Отюцкий Геннадий Павлович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Одним из важных направлений гуманитарных исследований в первой четверти XXI в. стали проблемы трансгуманизма, в том числе анализ его культурологических аспектов. Цель данной работы - охарактеризовать специфические характеристики культуры трансгуманизма в аспекте отношения этого направления к проблеме субъектности постчеловека. Исследование опиралось на ряд методов, в числе которых: анализ и синтез, дедукция и индукция, обобщение, философско-исторический и герменевтический методы. Показано, что телесность человека, выступая важнейшим фактором формирования культуры, в значительной мере детерминирует свойства субъектности. Культура, лишенная человеческой субъектности, вырождается в мертвое тело цивилизации. Однако ряд направлений постгуманизма нацелен на радикальную трансформацию тела вплоть до его элиминации посредством НБИК-технологий. Для понимания проектов иммортализма вводятся понятия «субъект-для-себя», «субъект-для-нас». На основе полученных результатов сделаны выводы о том, что технологический детерминизм, как методологический подход к исследованию проблем постчеловека в трансгуманизме, абсолютизирован. В итоге это может привести к десубъектизации постчеловека и элиминации культуры постгуманизма в целом.
Аболиционизм, постгуманизм, культура, постчеловек, телесность, субъектность, нбик-технологии, «субъект-для-себя», «субъект-для-нас»
Короткий адрес: https://sciup.org/149147099
IDR: 149147099 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.7
Текст научной статьи Культура трансгуманизма - бессубъектная культура?
Российский государственный социальный университет, Москва, Россия, ,
,
цель постгуманизма (или трансгуманизма) – обосновать проект создания постчеловека на основе использования НБИК-технологий, что позволит напрямую вмешиваться в биологическую природу человека и существенно трансформировать его тело вплоть до полной элиминации. Осмысление подобного рода проектов актуализирует проблему взаимосвязи телесности и субъектности человека. Поскольку субъектность человека – важный фактор формирования, бытия и развития культуры, а его телесность детерминирует содержание многих сфер культуры, как материальных, так и духовных, то актуальной проблемой становится исследование культурологических аспектов трансгуманистического проекта постчеловека.
Цель статьи – выявление специфических характеристик культуры трансгуманизма в свете отношения этого направления к проблеме субъектности постчеловека.
Методы и процедуры . Контент-анализ текстов транс(пост)гуманистов позволил выявить выдвигаемую ими концепцию развития человека, путей и способов его трансформирования в обозримом будущем. Антрополого-философский подход прояснил сущность проекта постчеловека в сопоставлении с пониманием человека как биопсихосоциального существа. На основе диалектического метода выявлен противоречивый и неоднозначный характер культурологических оснований трансгуманизма. Психологический подход использован преимущественно в процессе выявления сущности феномена субъектности.
Постчеловек – цель трансгуманизма . Понятие «трансгуманизм» стало активно использоваться с 1957 г., когда английский биолог Дж. Хаксли (он ввел это понятие в 1927 г.) связал проблемы трансгуманизма с достижениями НТР второй пол. ХХ в. (Рочняк, 2022: 37). Последовали публикации авторов, которых ныне относят к классикам трансгуманизма: книги Р. Эттингера «Перспектива бессмертия» (1964) (Эттингер, 2003) и «Человек в сверхчеловеке» (Ettinger, 1972), в которых обсуждались технологии улучшения биологической основы человека; книга Э. Дрекслера «Всеобщее благоденствие» в подзаголовке указывала на роль конкретной технологии: «Как нанотехнологическая эволюция изменит цивилизацию» (Дрекслер, 2014); в публикациях Н. Бострома обсуждаются проблемы искусственного интеллекта (ИИ), а также роль генной инженерии и клонирования в процессе трансформации человека (Бостром, 2016; Bostrom, 2005); роль ИИ в достижении бессмертия обсуждается в книге Р. Курцвейла «Эволюция разума» с подзаголовком «Как развитие искусственного интеллекта изменит будущее цивилизации» (Курцвейл, 2020). Список публикаций может быть неограниченно продолжен.
Ведущее методологическое основание трансгуманизма – возможность использования современных технологий (НБИК-технологий) для формирования постчеловека. Сформировалось две группы подходов к пониманию его сущности. В подходах первой группы постчеловек предстает в качестве существа, искусственно созданного при помощи НБИК-технологий, как итог «биоцифро-вой конвергенции» (Сомова и др., 2023).
Подобные монстры – «суперсложные генетически или информационно программируемые системные объекты», которые будут представлять собой не субъекты, а результаты человеческой деятельности (Моторина, 2010: 8–9). Датский философ С. Хольм четко указывает цель этого направления: «отказаться от человеческого тела и загрузить наше сознание в суперкомпьютеры» (Хольм, 2019: 7). Реальность осуществления такого проекта, по мнению его авторов, обусловлена наличием технологий, позволяющих напрямую вмешиваться в биологическое бытие человека, в их числе: нейротехнологии, клонирование, редактирование генома, информационные технологии (Бостром, 2016; Эттингер, 2003 и др.).
Подходы второй группы трактуют постчеловека как потомка современного человека, тело которого, сохраняя свою сущностную природу, приобретет новые характеристики. И «постчеловек», и современный человек сохранят фундаментальные антропологические константы – границы, «при разрушении которых человек перестает быть человеком» (Моторина, 2016: 20). Отмеченные подходы носят гипотетический характер, и их практическая реализация остается под вопросом. При этом не только возможно, но необходимо уже сейчас ставить вопрос о возможной перспективе культуры трансгуманизма, содержание которой в существенной мере определяется содержанием трансгуманистических концепций.
Культура и цивилизация через призму трансгуманизма. Обобщив более полувека назад свыше 150 определений культуры, американские исследователи А. Крёбер и К. Клакхон пришли к важному выводу: «Культурные системы могут рассматриваться, с одной стороны, как результаты деятельности людей, а с другой – как ее регуляторы»1. Подобные обобщения реализованы и отечественными исследователями2 (Каган, 1996: 13‒18; и др.). При всем различии подходов выявляется общая тенденция – сущность культуры соотносится с деятельностью человека как ее субъекта. В такой трактовке культура непосредственно связана с поведением, деятельностью людей, будучи ее условием, фактором формирования и результатом. В рамках указанного подхода человек - субъект культуры, причем сразу в двух аспектах: и как творец культуры, и как ее активный «потребитель». Именно этот смысл вкладывал поэт А. Дементьев в строки:
«Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы».
На первый взгляд, в русле такого понимания культуры находится и важнейшая цель трансгуманистов – созидание постчеловека.
Автором статьи предложена концепция, констатирующая, что культура формирует внутреннюю социальную сущность человека, в то время как цивилизация является внешним условием человеческого бытия, выступая внешней оболочкой культуры, ее материальным и нормативным «каркасом»:
Ц = К – Ч(S), где Ц – цивилизация;
К – культура;
Ч(S) – человек как субъект, рассматриваемый в аспекте его духовности и активной деятельности.
Выхолащивание субъектности превращает культуру в мертвый скелет цивилизации 1. Эту формулу можно применить к идеям О. Шпенглера о цивилизации как смерти культуры, ибо сущность цивилизации – рационализм, в то время как язык каждой великой культуры вполне понятен «лишь тому, чья душа вполне принадлежит этой культуре» (Харитонова, 2009): культура без души вырождается в цивилизацию. Аналогичны идеи Н.А. Бердяева, который писал о драме столкновения «вечности культуры» и «пошлости цивилизации» (Кара-Мурза, 2024: 15).
Классический гуманизм формировался как тип мировосприятия, высшая ценность которого – человек во всем богатстве его проявлений, формировалось представление о тесной взаимосвязи высоты духа и красоты тела. Очевидна неразрывная связь гуманизма и культуры в их классическом понимании: на человека-субъекта замыкается сущностный смысл и гуманизма, и культуры. Распространяется ли такая взаимосвязь на основные направления трансгуманизма?
Телесность в структуре субъектности . В философских размышлениях ХХ в. телесность стала пониматься в качестве важнейшей составляющей человеческой субъектности, а культура человеческого тела – важной подсистемы культуры. Э. Гуссерль характеризовал тело как форму «опытного отношения сознания»2, как единство, конституируемое «на ступени опытно постигающего созерцания» (Гуссерль, 1999: 325). В конституировании телесности он выделил четыре иерархии: 1) тело как материальный объект; 2) тело как «плоть» (живой организм); 3) тело как выражение и компонент смысла; 4) тело как элемент-объект культуры3. Для Ж.-Л. Нанси тело – орган «формирования смысла»4. С точки зрения М. Мерло-Понти, тело есть «непосредственное человеческое бытие» ‒ «наша укорененность в мире»; мы благодаря телу и «имеем» мир, и «принадлежим» ему5. Последовательный критик постгуманизма В.А. Кутырев справедливо отмечает: «При феноменологическом восприятии человек предстает как тело. Т(ч)еловек. Что у него есть душа, психика, сознание, мы домысливаем, воображаем, а непосредственно ориентируемся на выражение лица, глаз, походку и поведение»6. Замечательное отождествление: человек = теловек.
Таким образом, прочно утвердилась мысль о непосредственной связи тела и субъектности, о его роли в формировании смысла, постигаемого сознанием: тело выступает и «как его выражение, и как его компонент» (Э. Гуссерль), как орган «формирования смысла» (Ж.-Л. Нанси), как носитель «метафизического смысла» (М. Мерло-Понти). Выявлена культурологическая роль тела – оно есть «элемент-объект культуры» в иерархии телесного единства М. Мерло-Понти. Подчеркнём: во всех этих рассуждениях речь идет о теле ныне существующего человека – субъекта культуры , теле, еще не изуродованном произвольным вмешательством адептов трансгуманизма.
Человек может стать субъектом при обретении особого качества – субъектности, конкретные характеристики которой трактуются различно. Так, у А.Н. Ильина субъектность – в едином онтологическом пространстве вместе со свободой и ответственностью, у А.Г. Асмолова она выражает внутренний смысл конкретного типа деятельности, для И.В. Дуденковой центральными принципами субъектности выступают автономия разума и принцип рефлексии (Дьячков и др., 2020). Обстоятельную характеристику свойств субъективности (не вполне верный термин, точнее – «субъектности») дали И.В. Слободчиков и Е.В. Исаев: «выражает внутренний мир человека»; есть «то, что лежит в основе его бытия»; составляет «родовую специфику человека»; есть «форма практического освоения мира». Определяющее свойство – способность «превращать явления бытия в факты жизнедеятельности человека»1.
Выделяется приоритетный (исходный, главный, ведущий и др.) атрибут субъектности. Для А.Ю. Бугай исходным выступает «самоопределение как всеобщая форма реализации продуктивно-творческих сил – мышления, воображения, воли, веры и других» (Бугайа, 2013: 18). Самоопределение, по В.О. Богдановой, «является залогом успешной социально-психологической адаптации» (Богданова, 2023: 12). В качестве главного атрибута субъектности она выделяет способность к рефлексии, без которой невозможно осмысление субъективного опыта личности. Субъектность характеризуется и через ее интегративное качество. У В.И. Игнатьева интегрированная характеристика человека как субъекта включает «индивидуальное бытие с активным началом, телесность, материальность и протяженность, сознание, личностные характеристики и самосознание» (Игнатьев, 2021: 130). А.И. Кутырев не просто включает телесность в структуру субъекта, но требует, «возвратив субъекту тело, чувственность и тем самым целостность, поставить его в этом качестве в центр мира»2. О субъектности как «интегративном свойстве» пишет и В.О. Богданова, включая в ее состав среди прочих компонентов «осознание собственной индивидуальности (уникальности), свободу и ответственность (автономность)» (Богданова, 2023: 7).
Таким образом, субъектность связана с поисками смысла деятельности в процессе личностного самоопределения. Самоопределение есть результат рефлексии субъективного опыта личности при ее взаимодействии с реальностью. Но такой опыт – это прежде всего опыт телесного взаимодействия с реальностью, поэтому телесность – это и предпосылка, и существенный структурный компонент субъектности. При этом основополагающим является опыт взаимодействия с константной3 реальностью, ибо опыт взаимодействия с виртуальной реальностью может иметь не только позитивные, но и негативные последствия для субъектогенеза.
Отметим, что В.И. Игнатьев предпринял развернутую попытку обоснования феномена «техносубъектов», как машин «особого рода», с ИИ, что превращает их в носителей «качества первичной субъектности» (Игнатьев, 2021: 145). Правда, прямого отождествления с человеком-субъектом здесь нет, ибо подчеркнуто, что это субъекты особого рода. Вместе с тем есть авторы, прямо наделяющие свойством субъектности ИИ. Так, О.В. Брянцева и И.И. Брянцев утверждают, что признаки субъекта появляются у ИИ, исходя из того, что «у любого субъекта, независимо от его технологии материализации – естественной или искусственной, возникает ощущение субъектности и дееспособности» (Брянцева, Брянцев, 2023: 39). Иными словами, для них постулатом является не только возможность существования искусственно воспроизведенного субъекта, но и его возможность ощущать собственную субъектность . За скобками остается вопрос: кому-либо удалось обнаружить ощущения у ИИ? Пока нет положительного ответа на этот вопрос, следует оставить качество субъекта за человеком.
Именно благодаря субъектности человека возможно формирование, бытие и развитие культуры как важнейшей формы человеческой реальности. Поэтому уникальность и субъектность являются определяющими свойствами человеческого бытия, и только благодаря им возможно существование человека. Таким образом, субъектность личности – это характеристика целостного человека как биопсихосоциального существа, все ипостаси которого, включая телесную, взаимосвязаны. При таком понимании элиминация телесности неизбежно приводит к элиминации субъектности.
Судьбы культуры субъектности в трансгуманизме . Субъектность ‒характеристика человека в его классическом понимании как биопсихосоциального существа. Саморефлексия субъекта в существенной мере связана с осмыслением действий его тела (со всеми его атрибутами) в социокультурном пространстве, а субъектность неотрывна от социальной и духовной самоидентификации. Однако такая самоидентификация утрачивается в трансгрессивном трансгуманизме. Ведущая задача постгуманистов – преодолеть ограниченность человеческого тела путем его непосредственной переделки, что в первую очередь касается трансгрессивного постгуманизма, превыше всего ставящего биоморфическую свободу. Термин «морфологическая свобода», введенный Н. Бостромом, используется им для обоснования идеи о том, что природную эволюцию ныне надо продолжать с использованием современных технологий. Такая свобода связана с правом каждого человека «сохранять неизменным либо изменять собственное тело так, как он считает нужным» (Bostrom, 2005).
Н. Бостром, с одной стороны, честно признает, что «постчеловек (posthuman) ‒ это потомок человека, модифицированный до такой степени, что уже не является человеком 1 » , с другой стороны, заверяет: «Вы сможете получить гораздо большие способности испытывать эмоции, удовольствие и любовь»2, не ставя вопроса о том, сможет ли трансформированное тело вызывать чувство, к примеру, плотской любви? К сторонникам этой идеи относится и М. Мор, указывающий в качестве инструментов возможной реализации «морфологической свободы» нанотехнологии, хирургическое вмешательство, генную инженерию, а также «загрузку сознания»3. Будет ли «загруженное сознание» сознанием субъекта – этот вопрос не поднимается. Более того, реализацию «морфологической свободы» постгуманисты вменяют себе в обязанность, подобную обязанности излечивать болезни: «Существует и моральная обязанность генетически и другими средствами улучшать людей, поскольку это увеличивает их благополучие», – утверждает Дж. Савулеску (Savulescu, 2005: 36). Кто и когда наложил на нас такую обязанность, автор умалчивает. Вопрос о том, возрастет ли благополучие людей в результате такого «улучшения», автором также не ставится.
Что касается радикального генетического вмешательства в человеческое тело, то, по мнению Л.Е. Моториной, неизбежно «расщепление идентичности» между программируемым субъектом и программистом (Моторина, 2010: 9). Видимо, справедливее считать, что в этой ситуации именно программист остается субъектом, а «программируемый субъект» превращается в объект деятельности программиста, ибо утрачивает имманентные качества субъектности: самотожде-ственность и свободу в определении собственной судьбы: она изначально запрограммирована.
В качестве наиболее радикального способа реализации морфологической свободы рассматривается аплоадинг (uploading) – перенос человеческого сознания в компьютер (или другой носитель)4 как путь к цифровому бессмертию. Известный имморталист Р. Курцвейл рубеж перехода к этой стадии обозначает термином «технологическая сингулярность» – та точка, в которой ИИ превзойдет интеллект человека до такой степени, что произойдет конвергенция двух интеллектов: человеческого и цифрового, и «мы сможем жить столько, сколько захотим» (Мартин-Иогансон, 2022: 76). Однако кто подразумевается под этими «мы»? Вряд ли это читатели настоящей статьи, ибо подразумевается преобразование смерти в бессмертие путем оцифровки сознания. Если это и «телесность», то отнюдь не биологическая, а дигитальная5. Присуща ли такой телесности субъектность?
Имморталисты наивно считают, что духовную составляющую человека можно свести к дигитализации, ибо сознание человека якобы тождественно информации, которую можно разместить на цифровом носителе. Пишут даже о сеттлеретике – науке о т. н. «переселении» психики человека из его смертного биологического головного мозга в бессмертный, искусственный «нейрокомпьютерный мозг»6. Однако упрощенные модели подобной оцифровки существуют достаточно давно – это «осимволизация сознания». Действительно, мы и сегодня можем взаимодействовать с сознанием Платона, Аристотеля, ибо важная часть сознания великих философов сохранена посредством символов алфавита в их книгах. Мы взаимодействуем с ними как с субъектами, поскольку можем узнать их мнение по конкретным проблемам, постичь логику их размышлений. В известном смысле посредством «осимволизации сознания» удалось «преобразовать смерть в бессмертие» многих людей, если их идеи зафиксированы при помощи символов. Их даже можно трактовать как субъекты, поскольку мы взаимодействуем с интеллектуальными результатами их духовной деятельности. Но парадокс в том, что это односторонние субъекты, недосубъекты – «субъекты для нас».
С биологической смертью завершилось их бытие как «субъектов-для-себя»: они посредством «осимволизированных образов» воздействуют на нас, но мы уже не можем воздействовать на них. Это мы воспринимаем «осимволизированных людей» как субъектов, читая «Государство» Платона или «Риторику» Аристотеля. Книга как «осимволизированное сознание», хотя и обладает «бумажно-коленкоровой телесностью», никогда не станет «субъектом-для-себя», поскольку лишена имманентных характеристик субъектности. Осуществляют ли сегодня Платон и Аристотель культуросозидающую деятельность? Безусловно, но отнюдь не в качестве субъектов, а в качестве интеллектуального орудия, которое могут использовать (а могут и не использовать) современные «мы» для развития культуры.
Цифры – тоже символы, дигитализация – тоже «осимволизация». Являются ли образы виртуальной реальности субъектами? Да, являются, но не «субъектами-для-себя», а «субъектами-для-нас». Само их бытие – результат нашего решения: включать ли компьютер или игровую приставку или не включать? Взаимодействуя с такими «субъектами» в компьютерной игре, мы фактически взаимодействуем с другими субъектами, реально принадлежащими к совокупности «мы» – это программисты, которые не только придумали для нас хитроумные задачки и облекли их в привлекательные формы, но и в известной мере «рассубъектировали» нас самих, заставляя действовать по разработанному для игрока алгоритму.
Д.А. Беляев рисует перспективу метаморфизации человека «в цифровую информационную единицу, которая существует в виртуально-сетевой метаматрице, а любая его деятельность, в том числе и культуросозидательная, будет осуществляться только в модусе виртуальности, что обусловит виртуализацию и дигитализацию всего культурного пространства» (Беляев, 2014: 43‒52). Действительно ли «цифровая информационная единица» будет субъектом культуросозидательной деятельности и обитателем «культурного пространства? Пример такой единицы – «Алиса», которая есть практически в каждом смартфоне. И это – «субъект-для-нас», снабжающий нас информацией, которую в ином случае мы прочли бы в словаре или энциклопедии. Никакой самостоятельной культуросозидательной деятельности подобные единицы не осуществляют, являясь инструментом, средством, орудием деятельности реальных субъектов. В противном случае мы вынуждены были бы признать субъектом горнопроходческую машину метро, результатом использования которой становятся прекрасные подземные дворцы – артефакты культуры. Упомянутые единицы смогут участвовать в созидании культуры лишь тогда, когда останутся использующие их подлинные субъекты культуры – люди с их биологической телесностью. Если же трансформация в подобные единицы грозит всему человечеству, то субъекты культуры элиминируются.
Справедливо констатируя ограниченность возможностей человеческого тела, трансгуманисты не задаются центральным вопросом: а нужно ли для преодоления такой ограниченности издеваться над телом человека? Для формирования «постчеловека» совершенно не нужно издеваться над человеческим телом, ибо преодоление его ограниченных возможностей успешно реализуется посредством трансформации технического компонента системы «человек – техника». Акад. В.С. Степин специально подчеркивал, что человеческая телесность включает и искусственные органы (своеобразные «протезы»), дополнившие биологическое тело. Молоток – дополнение кулака, компьютер - дополнение мозга. «Структура нашего мышления и культура была бы иной 1 , если бы иной была система естественных и искусственных органов нашего тела»2. Отечественными исследователями предлагается более адекватное понятие, чем термин «постчеловек», а именно – термин «технолюди» (Алексеева и др., 2013). Это иное обозначение системы «человек – техническое средство его деятельности». К тому же генетически человека можно изменить единожды, а развитие технического компонента позволяет преодолевать ограниченность человеческого тела многократно и в разных направлениях (зачем человеку крылья, если есть самолеты; зачем зоркий глаз, если есть бинокли и телескопы?).
В постгуманизме существуют и иные попытки выявления альтернативной субъектности и альтернативной культуры: понятие «номадическая субъектность» введено Рози Брайдотти. Постгуманистического субъекта она характеризует как «реляционный субъект, составленный из множественностей и ради множественностей» (Брайдотти, 2021: 98) и провозглашает перенос акцента с «унитарной субъективности» на «субъективность номадическую», утверждая новую этику «неунитарного субъекта» в условиях «преодоления антропоцентризма» (Брайдотти, 2021: 98). Поскольку у трансгрессистов элиминируются главные характеристики субъектности – самостоятельность, ответственность и автономность субъекта, постольку культура трансгрессивного постгуманизма – это культура без субъекта в подлинном смысле этого слова, а следовательно, она перестает быть культурой, трансформируясь в мертвое тело цивилизации (но долго ли просуществует это тело?). Но, возможно, субъектность остается в других направлениях трансгуманизма?
Так, аболиционисты надеются с помощью высоких технологий полностью избавить человека от боли, страданий и несчастий (Хвастунова, 2020: 147). При этом автор аболиционистского проекта Д. Пирс ясно понимает роль страданий: «Субъективно неприятные состояния сознания существуют, потому что они были генетически адаптивными»3, однако настаивает на отрицании базисности боли и страдания. Предлагаются три инструмента для достижения «земного рая»: «токовая стимуляция – прямое воздействие на центры удовольствия головного мозга с помощью имплантированных электродов»; совершенные дизайнерские наркотики, которые «всегда могут быть полезны для сверхтонкого и легко обратимого контроля сознания»; генная инженерия, включающая терапию как на соматическом уровне, так и на уровне половых клеток, что позволит совершить «репродуктивную революцию в форме технологии дизайна детей»1.
Пирс игнорирует реальную роль страданий и боли как своеобразных индикаторов определенных неполадок в организме человека и общества и выступающих в качестве предпосылок для формирования мотивов устранения таких неполадок. «Человек Пирса» испытывает удовольствие не от успешно решенной задачи, не от достигнутой цели, не от устранения причины страданий. Он оказывается наркоманом (пусть даже «дизайнерским») или «генетическим инвалидом», лишенным возможности адекватно оценивать окружающую действительность, гневаться, досадовать, возмущаться и, будучи мотивированным этими чувствами, совершенствовать окружающий мир. Но именно адекватная оценка окружающего мира – самоопределение в мире ‒ есть важнейшая характеристика субъектности. Д. Пирс не задается вопросом: а способны ли вообще быть созидателями «дизайнерские наркоманы»? Таким образом, и в рамках аболиционизма субъект элиминируется, а поскольку культура не может быть бессубъектной, то элиминируется и культура.
Культурологическую и антропологическую сущность постгуманизма четко выразил В.А. Кутырев, утверждая, что часть человечества «соглашается стать материалом для пост(не)челове-ческого разума или вообще раствориться в иной субстанции. Соглашается утратить идентичность Homo sapiens, перестав считать свое существование самоценным и уникальным. Хочет из цели превратиться в средство»2.
Выводы . Трансгуманизм состоит в сложных взаимоотношениях с культурой. Представления о возможной реализации трансгуманистической идеи опираются на достижения современной материальной культуры, на успехи в области современных НБИКС-технологий. Трансгуманисты осмысливают пути конкретной реализации таких технологий для совершенствования человека и формирования постчеловека. Однако стремление сконструировать постгуманистического субъекта вне антропологического дискурса имеет результатом либо некоего технологизированного «кадавра», «либо растворяет уже-не-человека в потоках безличной множественной силы, которая действует в бесконечном космическом и “потустороннем”» (Бугай, 2013: 13).
К тому же технологический детерминизм трансгуманистов находится в стороне от размышлений не только о непреходящей ценности человеческого тела как предпосылки и важного фактора субъектности и формирования культуры, но и от размышлений о подлинной духовной культуре, сводя ее сущность к некоему объему информации, который можно зафиксировать на цифровой матрице. Поэтому вместо полноценной культуры постчеловек с утратой собственной субъектности остается в границах мертвого технологического каркаса цивилизации. Абсолютизация технологического детерминизма зачастую заводит этих мыслителей в тупик, и предлагаемые ими средства вместо «улучшения» человека выступают орудием «расчеловечения», а то и элиминации – уничтожения человечества как биологического вида. Культура трансгуманизма (если ее остатки после элиминации человека еще можно так называть) – это культура бессубъектности.
Список литературы Культура трансгуманизма - бессубъектная культура?
- Алексеева И.Ю., Аршинов В.И., Чеклецов В.В. «Технолюди» против «постлюдей»: НБИКС - революция и будущее человека // Вопросы философии. 2013. № 3. С. 12-21.
- Беляев Д.А. Перспективные антропологические модели постчеловека: трансформация человеческой природы и сверхчеловеческая атрибутика // Глобальное будущее 2045: Антропологический кризис. Конвергентные технологии. Трансгуманистические проекты: материалы Первой Всеросс. конф. М., 2014. С. 43-52.
- Богданова В.О. Философское осмысление феномена «субъектность» // Социум и власть. 2023. № 3 (97). C. 7-17. https://doi.org/10.22394/1996-0522-2023-3-07-17.
- Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. М., 2016. 492 с.
- Брайдотти Р. Постчеловек. М., 2021. 408 с.
- Брянцева О.В., Брянцев И.И. Проблема субъектности искусственного интеллекта в системе общественных отношений // Вестник Поволжского ин-та управления. 2023. Т. 23, № 3. С. 37-50. https://doi.org/10/22394/1682-2358-2023-3-37-50.
- Бугай А.Ю. Самостоятельность в структуре субъектности как важный компонент в развитии личности // Инновационные процессы в образовании: стратегия, теория и практика развития: материалы VI Всеросс. науч. -практ. конф. Екатеринбург, 2013. Т. 1. С. 17-19.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. Общее введение в чистую феноменологию. М., 1999. 336 с.
- Дрекслер Э. Всеобщее благоденствие: как нанотехнологическая эволюция изменит цивилизацию. М., 2014. 502 с.
- Дьячков А.А., Шабанов Л.В. Познавательная субъектность: психологический взгляд на эпистемологический анализ деятельно-преобразующего способа бытия // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. Т. 8, № 5. URL: https://mir-nauki.com/PDF/31 PSMN520.pdf (дата обращения: 07.11.2024).
- Игнатьев В.И. Проблема техносубъекта: о субъектности «сущностей-конструкторов» // Идеи и идеалы. 2021. Т. 13, № 1-1. С. 130-150. https://doi.org/10.17212/2075-0862-2021 -13.1.1-130-150.
- Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. 414 с.
- Кара-Мурза А.А. Культура, цивилизация и «новое варварство»: историософические прозрения Николая Бердяева // Философский журнал. 2024. Т. 17, № 2. С. 5-20. https://doi.org/10.21146/2072-0726-2024-17-2-5-20.
- Курцвейл Р. Эволюция разума: как развитие искусственного интеллекта изменит будущее цивилизации. М., 2020. 448 с.
- Мартин-Иогансон Э. Трансгуманизм: технологическая сингулярность или разрушение человечества? // Философия хозяйства. 2022. № 6 (144). С. 68-81.
- Моторина Л.Е. Исторические основания и смысловые границы понятия «постчеловек» // Вестник РУДН. Серия Философия. 2010. № 3. С. 5-10.
- Моторина Л.Е. Методологический потенциал фундаментальных антропологических констант // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2016. № 1 (27). С. 19-28.
- Рочняк Е.В. Трансгуманизм как один из возможных путей будущего развития человечества: история идеи // Вестник Московского гос. обл. ун-та. Серия: Философские науки. 2022. № 2. С. 108-116. https://doi.org/10.18384/2310-7227-2022-2-108-116.
- Сомова И.Ю., Ипатова К.С., Амельченко А.Я. Биоцифровая конвергенция как инструмент трансгуманизма: методы и цели антропологического перехода // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2023. Т. 14, № 3. URL: https://sfk-mn.ru/PDF/04SCSK323.pdf (дата обращения: 07.11.2024).
- Харитонова Н.Н. Философия культуры Освальда Шпенглера // Успехи современного естествознания. 2009. № 7. C. 141. URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=12733 (дата обращения: 07.11.2024).
- Хвастунова Ю.В. Гедонистический императив и райская инженерия Дэвида Пирса как нравственно-религиозная основа современного трансгуманизма // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 56. С. 146-156. https://doi.org/10.17223/1998863X/56/15.
- Хольм С. Философские проблемы в оценке постчеловеческого будущего // Человек. 2019. № 4. С. 5-15.
- Эттингер Р. Перспективы бессмертия / пер. Д.А. Медведева. М., 2003. 261 с.
- Bostrom N.A. History of Transhumanist Though // Journal of Evolution and Technology. 2005. Vol. 14, no. 1. P. 1-25.
- Ettinger R.C.W. Man Into Superman: The Startling Potential of Human Evolution and How to Be Part of It. N.Y., 1972. 312 p.
- Savulescu J. New breeds of humans: the moral obligation to enhance // Reproductive BioMedicine Online. 2005. Vol. 10. P. 36-39. https://doi.org/10.1016/s1472-6483(10)62202-x.