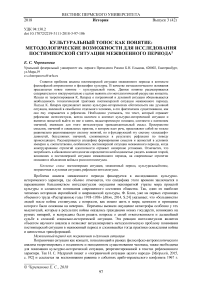Культуральный топос как понятие: методологические возможности для исследования постимперской ситуации межвоенного периода
Автор: Черепанова Е.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Интеллектуальная повестка в период между мировыми войнами: о войнах и империях
Статья в выпуске: 3 (42), 2018 года.
Бесплатный доступ
Ставится проблема анализа постимперской ситуации межвоенного периода в контексте философской антропологии и философии культуры. В качестве методологического основания предлагается новое понятие - культуральный топос. Данное понятие рассматривается содержательно и инструментально с целью выявить его методологический ресурс как концепта. Исходя из теоретизирования К. Ясперса о пограничной и духовной ситуации обосновывается необходимость топологической трактовки постимперской ситуации межвоенного периода. Подход К. Ясперса предполагает анализ культурно-исторических обстоятельств как духовной ситуации, явленной в самобытии отдельного человека, в его фактическом существовании, как оно ему открывается в рефлексии. Необходимо учитывать, что текст, который отражает рефлексию интеллектуала, всегда включен в контекст культурно-исторической ситуации и является попыткой выйти из нее и занять надысторическую позицию, соотнести с пантеоном значений, имеющих для этого интеллектуала трансцендентальный смысл. Пространство смыслов, значений и социальных практик, о котором идет речь, представляет собой не только рационально распознаваемую систему понятий, но и фундирующий эту систему «ландшафт» данностей, безусловных значений, сложившихся в результате рефлексии по поводу происходящего. Рассматривается специфика формирования смыслов и ценностей в условиях империи и, соответственно, особенность постимперской ситуации межвоенного периода, когда конструирование стратегий идентичности отражает имперские установки. Отмечается, что потребность в обновлении методологии определяется необходимостью увидеть влияние теорий, возникших в постимперской ситуации межвоеннного периода, на современные стратегии описания и объяснения войны и роли интеллектуала.
Постимперская ситуация, межвоенный период, культуральныйтопос, пограничная и духовная ситуация, рефлексия интеллектуала
Короткий адрес: https://sciup.org/147245192
IDR: 147245192 | УДК: 94:130.2 | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-3-97-106
Текст научной статьи Культуральный топос как понятие: методологические возможности для исследования постимперской ситуации межвоенного периода
Проблема анализа межвоенного периода фиксируется в исследованиях культурноисторического характера, где обычно отмечается, что специфика этого времени заключается в переживании большинством интеллектуалов ощущения невозвратной утраты мира прошлой культуры и сложности понимания современного состояния общества. Так, один из наиболее читаемых историков европейской и американской культуры, Ф. Блом, уже на первых страницах объемного труда «Растерзанные годы 1918–1938» [ Blom , 2014, S.24] указывает, что «большинство людей после войны столкнулись с вопросом, как можно жить в мире, ценности и принципы которого были основаны на неверии». Перемены вызвали ощущение катастрофы особенно у тех мыслителей, которые в результате войны оказались гражданами новых государств, возникших на руинах империй, и вынуждены были решать вопросы о своей ответственности и дальнейшей судьбе в сложной социально-исторической ситуации. Эта реакция интеллектуалов является объектом научного анализа и позволяет актуализировать методологическую проблему понимания постимперской ситуации в межвоенный период и сложившейся тогда практики осмысления войны и ценностных трансформаций.
Межвоенный период как пограничная и духовная ситуация
Пограничная ситуация как концепт, позволяющий в рамках философско-антропологического анализа теоретизировать о подлинном и неподлинном существовании человека, также необходима для понимания культурно-исторической ситуации, репрезентированной в текстах рефлексивного характера. Так Н. С. Мудрагей пишет о «пограничной ситуации целого народа» [ Мудрагей , 2015, с. 192] и ссылается на воспоминания раввина о событиях арабо-израильского конфликта 1967 г.
«Мы, родившиеся после Холокоста, испытали страх второго Холокоста»– цитирует автор статьи Дж. Сакса [ Sacks , 2012, р. 47]. Пограничная ситуация анализируется как таковая в смысловом и символическом контексте ужасных событий Холокоста, а воспоминания объединяют судьбу того, кто вспоминает, его страх и осознание конечности собственной жизни с переживанием судьбы народа, который вновь оказался на грани уничтожения. Поэтому при выявлении специфики межвоенного периода в истории культуры, при текстуальном и контекстуальном анализе продуктивно использовать указанную трактовку, которая позволяет видеть эту ситуацию как вневременное и междувременное пространство прояснения смыслов, необходимых для проектирования будущего.
Пограничная ситуация вынуждает человека искать ответ на вопросы о смысле жизни и перспективах существования в аспекте переживания собственной конечности. Для этого необходим выход из линейного, направленного существования, где есть прошлое и будущее, в пространство явленного с очевидностью настоящего, которое переживается как абсурдное (Камю, Сартр), страшное, скучное (Хайдеггер), суетное (Паскаль) и неподлинное. К. Ясперс указывает, что переживание страха смерти и чувства вины приводит к экзистенции. В этой ситуации никакие достижения науки не помогают, и человек вынужден направить свою способность к рефлексированию по поводу того, что происходит. «Способ, каким он ведет себя, таков, что сам человек – всецело внутри того, что происходит. Экзистенция – это обнаружение всего, что в человеке, собственно есть, происходящее в ситуации когда анонимные силы науки перестают действовать» [ Гадамер , 1991, с. 21].
Ценностный кризис, распад символического мира требует переосмысления всего, рефлексии, которую, видимо, также необходимо осуществлять по-новому. Пограничная ситуация применительно к человеческой жизни свидетельствует о невозможности мыслить происходящее с человеком во времени и требует топологической трактовки. Видение границы взывает к необходимости разобраться с тем, как можно выстраивать дальнейшее осмысление перспектив существования. Именно поэтому может происходить пересмотр как ценностей, так и способов описания действительности. Вопрос о том, что говорить и как говорить, в этом случае оказывается связанным с проблемой осмысления. Если осмысление происходит, то этот акт становится началом действия, началом дальнейшего движения во времени.
Пограничная ситуация как философское понятие концептуализируется в теории К. Ясперса именно в межвоенный период. Духовную атмосферу после Первой мировой войны он, как и большинство интеллектуалов, воспринимает как вызов всей европейской классической традиции философствования. Прошлый опыт философии был связан с обоснованием роли разума для общественного прогресса, которое осуществлялось порой в непримиримой полемике с теми мыслителями, кто критиковал Просвещение и рационализм. Так или иначе символом европейской культуры является упование на разум в решении всех вопросов, от антропологических до социологических.
Время после Первой мировой войны обнаруживает, что «в действительности человека западной культуры произошло нечто чудовищное: распад всех авторитетов, радикальное разочарование горделивого доверия к разуму, разложение всех связей» [ Ясперс , 2013, с.11]. В этом суждении К. Ясперса важно то, что наблюдавшиеся изменение описывается не как некий поворот в истории культуры и философии, а как кризисное состояние европейского человека. Для мыслителя неразрывно связаны проблематичность человеческого существования и специфическая ситуация в культуре. Именно поэтому так эмоциональна оценка происходящего. Слова, которыми изобилует текст К. Ясперса об особой духовной ситуации, – это «рубеж в развитии мира» [ Ясперс , 1994, с. 300], «распад духовной деятельности» [Там же, с. 305].
Прежняя культура как основание европейской идентичности не была готова к цинизму войны. Ст. Цвейг в 1915 г. указывает на ответственность тех, кто полагает себя интеллектуалом. То, что пишут газеты о войне, – это «наглая, огромная бесстыжая ложь войны... виноваты те, кто подстрекает к войне. Но виноваты и мы, раз не обратили против них своих слов» [Цвейг, 2004, с. 202]. В своих дневниках австрийский религиозный философ Ф. Эбнер подчеркивает, что война переживается человеком также, как экзистенциальный кризис, и вносит разлад в сложившийся мир ценностей2. Война привела к духовному хаосу, так как в полной мере обнажила непригодность идеи объективного духа в ситуации, когда человек вынужден спасать свой личный духовный мир, который настигает катастрофа угасания веры в Бога [Ebner, 1963, S. 401–402].
В равной мере и классическая метафизика, и декаданс модерна оказались непригодны для понимания и объяснения войны и последовавших за нею социальных потрясений. Вопросы ценности жизни, смысла и бессмысленности смерти, которые толковались на рубеже веков в ницшеанском духе, теперь ставились заново. «Под влиянием войны и русской революции мы противопоставляли безмятежным грезам наших профессоров насилие – разумеется, лишь в теории. Это было насилие дурного свойства (оскорбления, схватки, самоубийства, преступления, непоправимые катастрофы), грозившие привести нас к фашизму; но в наших глазах оно имело то преимущество, что заостряло внимание на противоречиях действительности» [ Сартр , 2008, с. 23].
Кризис культуры этого времени понимается К. Ясперсом как уникальная смысловая действительность, для описания которой требуется введение понятия ситуации («исторически определенной ситуации») [ Ясперс , 1994, с. 289], без которого человеку теперь трудно сохранить представление о целостности культурно-исторической действительности. «Канувшие в историю ситуации можно рассматривать как завершенные, ибо они уже известны нам в своем значении и больше не существуют, наша же собственная ситуация волнует нас тем, что действующее в ней мышление продолжает определять, чем она станет. Каждому известно, что состояние мира, в котором мы живем, не окончательное» [Там же, с. 228]. При этом К. Ясперс указывает на то, чем отличается понимание ситуации в культурно-историческом и философско-антропологическом смысле от понимания экономической, социальной и политической ситуации, от ситуации групп, государств и др. Философ подчеркивает, что его подход предполагает анализ культурноисторических обстоятельств как духовной ситуации, явленной в самобытии отдельного человека, в его фактическом существовании, как оно ему открывается в рефлексии [Там же, с. 301].
В акте рефлексии человек обращается к бытию как ориентирующему самобытию, т.е. «целью уяснения ситуации является возможность сознательно с наибольшей решимостью постигнуть собственное становление в особой ситуации» [Там же, с. 304]. И в этой смыслоориентирующей познавательной процедуре неверным будет признать уникальность и случайность личной ситуации, равно как и признать стремление абсолютизировать и типологизировать случившееся как проявление некоего мирового исторического закона. Именно поэтому для понимания ситуации важен опыт рефлексии отдельного человека, в котором как раз отражен феномен осмысления конкретных обстоятельств в горизонте возможных универсалий, которые таким образом проходят переоценку на предмет применимости в новых обстоятельствах.
Отсюда для философии вопрос о том, как можно помыслить ситуацию в смысловом горизонте отдельного человека важен не меньше, чем традиционная попытка гуманитарного знания описать перемены объективированно, с точки зрения мирового исторического процесса, как проявление социально-экономических закономерностей.
Человеку важно понимать его время, в этом акте понимания, в этом схватывании он определяет свое место в своем времени, свою со-временность. «Я – то, что есть время. А то, что есть время, выступает как определенное место в развитии. Если я его знаю, то знаю требование времени. Для того чтобы достигнуть понимания подлинного бытия, я должен знать целое, в соответствии с которым я определяю, где мы находимся сегодня» [ Ясперс , 1994, с. 303]. Интенция рефлексии личности по поводу сложившейся ситуации времени, таким образом, по своей сути топологична, так как предметом экзистенциального осмысления становится «место в развитии».
Х. Арендт в 1946 г. в рецензии на книгу Г. Броха указывает, что в межвоенный период проявился разрыв между поколениями, который был вызван очевидным ощущением надвигающейся катастрофы. То есть были интеллектуалы прошлого – ХIХ века, которые хотя и писали в начале ХХ века, но в предмете своей рефлексии отражали ощущение утраты прекрасной уходящей эпохи и были те, кто уже во время Первой мировой войны занимали некую надвременную позицию и поэтому точнее передавали масштаб происходящих перемен. И в полной мере особенность межвоенного периода можно определить, если отразить истину этого разрыва между эпохами, показать, что «цепь разорвана и обнаруживается "пустое пространство", разновидность исторической ничейной земли, которая может быть описана только как "уже не и еще не"» [Арендт, 2018, с.288]. Х. Арендт для прояснения особенности межвоенного периода концентрирует внимание на остановку культурно-исторического процесса, которая нашла отражение в литературных текстах этого времени. Поэтому для более точного описания специфики литературы межвоенного периода она использует понятие пространства.
Таким образом, можно говорить о том, что смыслы и практики описания ситуации, представленные в рефлексии интеллектуалов, осмысляющих культурно-исторические обстоятельства межвоенногопериода, было бы продуктивно трактовать как топос.
Постимперская ситуация межвоенного периода
Постимперская ситуация межвоенного периода в социально-историческом плане означает, что в результате Первой мировой войны происходит радикальное изменение социального порядка, который с одной стороны принципиально отличается от прежнего, так как прекратили свое существование старейшие империи, с другой стороны, наследует институциональные и идеологические практики, сложившиеся в этих империях. О. Бауэр, описывая историю реформ, которые проводили австрийские социал-демократы в период Первой республики, неоднократно подчеркивал, что бюрократические формы империи сохранялись в государстве, которое уже не было империей. «Само государство распалось, но его правительственный аппарат пережил его самого» [ Бауэр , 1925, с. 12]. Даже учебные планы в школах полностью соответствовали тем, что были введены еще при кайзере в 1883 г., и существенно были изменены лишь с 1920 г. [Там же, с. 187]. В учебниках и на географических картах Австрия оставалась империей, а кайзер Франц-Иосиф был отцом народов.
Имперское сознание, имперская культура не исчезают на основе учреждающих новую страну государственных документов и продолжают оказывать влияние как на повседневную реальность, так и на более сложные духовные процессы. В империи устанавливается иерархия этнических общностей, в которой определяется титульная нация и место других народов. Иерархия отражает сложные межконфессиональные связи, в соответствии с которыми осуществляются персональные идентификационные стратегии. Сложившиеся идентичности значительное время сохраняют свое влияние в культуре и после того, как империя исчезает. В этом плане как правило имперская идея остается значимым смысловым горизонтом, относительно которого продолжает выстраиваться иерархия новых ценностей. Имперская идея Священной Римской Империи Германской нации иссякла значительно позже, чем фактическая империя, просуществовавшая до начала ХIХ в. [ Филиппов , 2008, с.743].
В репортажах Й. Рота 1919 и 1920 гг. также можно обнаружить отражение общего ощущения вечности Габсбургских порядков. Из этих небольших текстов видно, как переживалась двойственность новой социальной реальности. «Мы хоть и кичимся своей государственной новизной, но на самом деле всего-навсего наспех латаем ее прежним кайзеровским тесом» [ Рот , 2016, с. 23–24]. У.М. Джонстон в полемике с К. Магрисом отмечал, что тоска по империи была характерна не только для граждан нового австрийского государства, но и для венгерских интеллектуалов. «После 1918 года ностальгия по Габсбургам вдохновляла таких публицистов, как Дьюла Секфью» [ Джонстон , 2004, с. 43].
Очевидно, что гибель империи означает для граждан нового государства необходимость поиска новой идентичности, который следует осуществить в ситуации переживания краха старого порядка. Однако особенность этого времени заключается в том, что смена образа жизни происходит в результате мировой войны, к которой европейская культура пришла в период расцвета и утверждения идей гуманизма. Именно поэтому, если говорить о постимперской ситуации межвоенного периода в философско-антропологическом аспекте, она может быть понята как пограничная ситуация, в которой человек переживает конечность собственной прежней жизни, конец собственной прежней идентичности, с которой он связывал свои личностные, сущностные, экзистенциальные основания. В силу сложившихся обстоятельств человеку приходится в том числе решать вопросы идейного выбора, проектировать новый комплекс ценностей или приспосабливать имеющийся к новым условиям. «Для того, чтобы быть самим собой, человек нуждается в позитивном наполненном мире. Если этот мир пришел в упадок, идеи кажутся умершими, то человек скрыт от себя до тех пор, пока он в своем созидании не обретет в мире вновь идущую ему навстречу идее» [ Ясперс , 1994, с. 399].
Специфика этого акта рефлексии в постимперской ситуации заключается в том, что интеллектуал воспроизводит сложившиеся навыки выстраивания ценностных порядков и мыслит в масштабах империи, так как убеждение в возможности консолидации в ситуации политического и социального разобщения сохраняется. Вероятно, этим объясняется «способность к глобальному мышлению» австрийских мыслителей имперского и постимперского периода [Джонстон, 2004, с. 603]. Персональный мир интеллектуала в этом случае не является завершенным позитивно, если глобальный смысловой горизонт не определен в его связи с индивидуальной стратегией видения будущего – собственного становления в особой ситуации [Ясперс, 1994, с. 304].
Постимперская ситуация межвоенного периода осознавалась интеллектуалами как разлом, духовный кризис, предъявивший очевидное несовпадение ожиданий, сложившихся в рамках прошлого развития культуры и новых обстоятельств. Однако оценивание случившегося происходило в условиях сформировавшихся дискурсивных практик оправдания или критики империи. То есть в процессе формирования идентичности интеллектуал империи ХIХ в. вынужден был ставить вопрос об иерархии имперского и национального, трактовать каким-то образом отношение центра и регионов. Дискуссии славянофилов и западников в России – яркий пример рефлексии о судьбах империи, когда ставится вопрос о сущности русской культуры и происходит поиск некоего культурного центра (Европа или «Москва – третий Рим»), относительно которого может быть понята и раскрыта собственная миссия интеллектуала. В империи Габсбургов достаточно долго для многих критикующих имперские порядки идеалом были германская культура, поэзия Гете, философия Канта, позже – Ницше и политическая практика Бисмарка. Те писатели, философы и музыканты, кто происходил из еврейских семей часто оказывались германофилами [ ЛеРидер , 2009]. Ими австрийская идея была принята только тогда, когда империю исключили из Германского союза, а австрийские немцы в результате создания Австро-Венгрии оказались объединенными с другими народами империи под новым неопределенным названием: «государства, представленные в Рейхсрате» [ Нири , 1987, с. 31].
По сути австрийский интеллектуал постоянно выступал за обновление, указывал на анахронизм «вечной монархии» (Франц-Иосиф правил 68 лет), смеялся над бюрократией, боролся за национальную независимость. То есть его рефлексия происходила в ситуации некоего плюрализма ценностей, культурных оценок и смыслов. Тем, что К. Ясперс называет целым – олицетворение мирового исторического процесса, была история империи Габсбургов, вечной «Какании» (КК – кайзеровская, королевская, как назвал ее Р. Музиль в романе «Человек без свойств»). Пантеон имперских или национальных ценностей имел для интеллектуала австрийской империи трансцендентальный смысл, и в этом смысле были приняты и освоены ценности католической культуры, так что если даже отношения с церковью были сугубо светскими, схемы мышления так или иначе отражали влияние католицизма. При этом реальность австрийской имперской жизни, имперские амбиции, имперская бюрократия (цензура Меттерниха, к примеру) были предметом критики в большей мере, чем идея Германской империи. У. М. Джонстон ссылается на известного германиста В. Брехта, который считал, что имперское сознание в австрийском государстве сформировалось достаточно поздно [ Джонстон , 2004, с.28; Brecht , 1931, S. 607–627] и в культуре идеалы простой общинной жизни парадоксальным образом существовали наряду с нарождающимся имперским миропониманием.
Можно предположить, что когда в результате Первой мировой войны принципиально изменились культурно-исторические обстоятельства и возникла необходимость обращаться к аргументации «посредством моральных оснований, хотя способствующий установлению консенсуса контекст мировоззренчески-религиозного встраивания распался» [ Хабермас , 2011, с. 85], интеллектуалы бывших империй продолжали конструировать символический мир ценностей в горизонте имперской культуры. То есть представлять некую социальную общность (народ, единоверцев и т.п.) как избранную для особой миссии, как выбор титульной нации, «главной» религии-идеологии, готовность в свете этого порядка «найти место» другим этносам и культурам и тем самым задавать глобальный масштаб для постановки вопроса о будущем, об ответственности интеллектуала.
Текст как рефлексия интеллектуала
Топологическая трактовка постимперской ситуации межвоенного периода дает возможность предполагать, что прошлое влияет на настоящее без каких-либо промежуточных временных периодов. Это позволяет осуществить выход за пределы исторической ситуации, в рамках которой сложился культуральный топос, выявить, как дискурсы империи «прорастают» в дискурсах войны и как это проявляется в идеологиях различных регионов Европы и России.
Пространство смыслов, значений и социальных практик, о котором в рамках этого методологического предложения идет речь, представляет собой не только определенную рационально распознаваемую систему понятий, но и фундирующий эту систему «ландшафт» данностей, безусловных значений, сложившихся не только в результате теоретических дискуссий, но и в ходе рефлексии по поводу эмоциональных переживаний завершения идентичностей. Так складывается круг запретных тем и «больных» вопросов, то, о чем уже невозможно писать, и то, о чем не писать невозможно.
Указание на культуральность означает, что сложившиеся в определенной исторической ситуации практики описания, оценивания и рефлексирования могут вновь выступить как актуальные, продуцировать оценки и рефлексии, «взывать» к тому, что, казалось бы, уже не соответствует времени. Отсюда воспроизводство институций, которые хотя и не относятся к этому времени, но предписывают современности понимать и переживать себя привычным образом. Иначе говоря, хотя на смену интеллектуалу приходит культурал, а в современных условиях коммуникации неразличимыми оказываются приватное и публичное, старый дискурс ответственности интеллектуала в ситуации войны опять «прорастает» в ситуации кризиса идентичности XXI в.
В этом случае ключевым материалом анализа оказывается рефлексия интеллектуала, репрезентированная в тексте. Очевидно, что тексты, которые появляются в межвоенный период, как реакция интеллектуалов имеют много общего в содержательном плане. При этом тексты пишутся на разных языках и в разных культурных контекстах. В результате возникает методологическая потребность сравнивать смыслы и практики описания в разных регионах. В связи со сказанным интересно было бы, наверное, обратиться к учению Лотмана о семиосфере, согласно которому культуру характеризует единое семиотическое пространство. «Внешний мир, в который погружается человек, чтобы стать фактором культуры, подвергается семиотизации – разделяется на область объектов, нечто означающих, символизирующих, то есть имеющих смысл, и объектов, представляющих лишь самих себя» [ Лотман , 2000, с. 259]. Поэтому необходимо находить некие универсалии, которые присущи всем культурам. «При всем различии субструктур семиосферы, они организованы в общей системе координат: на временной оси – прошедшее, настоящее, будущее, на пространственной – внутреннее пространство, внешнее и граница между ними» [Там же]. Такое понимание множественности и универсальности символов и значений в культуре очень важно для толкования культурального топоса, однако семиотического подхода недостаточно для того, чтобы раскрыть социальный смысл тех культурных трансформаций, которые происходили в межвоенный период.
Необходимо учитывать, что текст, c одной стороны, включен всегда в контекст культурноисторической ситуации, с другой – является попыткой выйти из нее и занять надысторическую позицию, соотнести с пантеоном значений, имеющих для этого интеллектуала трансцендентальный смысл. «Интеллектуал должен публично пользоваться профессиональным знанием, которым он располагает, например, как философ или писатель, как социолог или физик, не будучи спрошенным, то есть, не получая поручений ни с какой стороны… И в других отношениях от интеллектуала ожидают трудного хождения по краю» [ Хабермас , 2011а, с. 25].Тексты предъявляют общественности оценки современности, они производят порядки этой оценки, задают уровень дискуссии и институциализируют условия ее осуществления.
Текст как коммуникативное пространство можно понимать как поле диалога, где автор апеллирует к заданному ценностному горизонту, так как претендует не только на значимость, но и на то, что будет понятым. Рефлексируя и затем репрезентируя этот процесс в коммуникативном пространстве текста, интеллектуал предполагает, что находится воспринимающим текст в одном поле коммуникативной рациональности, верит, что будет понят и отыщет тех, кто с ним согласен. Он, таким образом, предъявляет «публике» определенные ожидания, некий желаемый образ той элиты, к которой обращается в тексте. Эта возможная аудитория должна по меньшей мере иметь общие с интеллектуалом представления о предельных моральных основаниях, которые он может, например, считать общечеловеческими.
В постимперской ситуации перед интеллектуалом встает вопрос о том, к какой публике он теперь обращается? Можно ли, как и прежде, полагать, что его «слышит» та же имперская аудитория многонационального и поликонфессионального культурного пространства? Переживая идентификационный кризис, автор текста обращается к имеющемуся ценностному порядку (персональные, региональные, национальные, имперские ценности), чтобы определить контуры новой общности, с которой он теперь себя соотносит и для которой будет играть роль интеллектуала. Меняющаяся социокультурная ситуация в известной степени оказывает влияние и на выбор жанра «интеллектуального послания». Не определив адресата, интеллектуал создает текст «для себя» (дневники, эссе, заметки).
Автобиографическое описание пережитого появляется тогда, когда выявляется коммуникативное пространство, когда найден возможный читатель, который, как и автор, готов воспринимать предложенную историю событийно. Поэтому понятно, что автобиографию пишут тогда, когда ситуация преодолена и возвращение к опыту прожитого означает признание хронологической данности, признание того, что ситуация стала частью истории. В этом смысле автобиографическое описание как нарратив дехронологизирует повествование [ Рикер , 1998, с. 103], возвращая событийный смысл прожитому и актуализируя ценность опыта ситуации.
Интеллектуал пересматривает имеющиеся ценностные ориентации с позиции трансцендентального уровня, т.е. занимает в некотором смысле морализаторскую позицию. Для него, взявшегося ставить диагноз современности, «блекнет актуальность взаимосвязей опыта, проводимого в сфере жизненного мира; нормативный характер существующих институтов представляется ему нарушенным в той же мере, что и объективный характер вещей и событий» [ Хабермас , 2001, с. 168]. В приведенной ранее цитате из Ясперса: «Я должен знать целое, в соответствии с которым я определяю, где мы находимся сегодня» [ Ясперс , 1994, с. 303] – указывается на то, что рефлексия по поводу ситуации требует видения и понимания некоего смыслового горизонта, который имеет трансцендентальное значение. Поэтому к числу ключевых проблем, о которых должен интеллектуал осуществлять рефлексию, относится вопрос о «целом», о том, что должно фундировать самоопределение. Сложность рефлексирования по поводу ситуации заключается в том, что целое ускользает, распадается, остается лишь образ возможной перспективы для ориентации [Там же]. Поэтому ответ на вопрос о целом означает выход из ситуации, отсюда так очевидна «решимость постигнуть собственное становление в особой ситуации» [Там же, с. 304]. Моральные нормы являются наиболее очевидным воплощением целого, поэтому поиск оснований практического дискурса, моральная критика и оценка становятся важными и отражаются в тексте.
Трактовка текста как интеллектуальной рефлексии позволяет считать, что автор сравнивает, соотносит ситуацию, о которой он пишет, с приемлемым для него ценностным порядком. Рефлексия понимается в этом случае как определение местоположения того, что оценивается с внутренним нормативным порядком. В критической ситуации крушения старых ценностей, на основании которых происходили внутренние идентификационные процессы, человеку приходится заключать новую конвенцию о приемлемом и неприемлемом, о своем и чуждом, о пределах терпимости и т.п. Таким образом, «с антропологической точки зрения рефлексия может быть понята, как охранное учреждение, которое компенсирует встроенную в социокультурные жизненные формы ранимость» человека [ Habermas , 1991, S. 14].
Заключение
Культуральный топос предполагает единое понимание ментальной и социальнопрактической активности как участников событий, так и тех, кто впоследствии берется эти события интерпретировать. Топологические характеристики концепта означают, что вне зависимости от времени сформировавшиеся в постимперской ситуации в межвоенный период смыслы, значения и практики рефлексирования реактуализируются в связи с необходимостью осмыслять феномен войны. Топос в данном смысле позволяет понять межвоенный период не только как вневременной ментальный образ, но и как междувременный – между временем старой и новой империи, между миром старой культуры и предчувствием новой, как постимперскую ситуацию. Указание на ситуацию означает, что те, кто переживает ее как таковую, – интеллектуалы в первую очередь, вынуждены в сложившихся обстоятельствах вступить в некое общее ментальное, культуральное пространство активного обсуждения того, что произошло. И пока происходит оценивание, рефлексия, вписывание в рамки новой реальности или определение актуальных контуров для описания того, что случилось, и того, что может произойти, пока не созданы условия некоего коммуникативного консенсуса, ситуация не разрешается, не уходит в прошлое, а приобретает топологические характеристики. Интеллектуал, рефлексирующий по поводу войны, завершения существования империи, актом описания привносит порядок и стабильность в свою картину мира, «наводит порядок». Его опыт рефлексии сложился в описании имперского порядка, в котором очевидна надысторичность. Поэтому он вписывает ситуацию в более широкие культурные контексты, придавая ей топологические характеристики.
Список литературы Культуральный топос как понятие: методологические возможности для исследования постимперской ситуации межвоенного периода
- BlomPh. Die zerrissenen Jahre: 1918-1938. Munchen: Carl Hanser Verlag, 2014. 576 S.
- Brecht W. Osterreichische Geistesform und osterreichische Dichtung: nach einem Vortrag // Deutsche Vierteiljahreszeitschrift fur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 1931. № 9. S.607-627.
- Ebner F. Das Wort und die geistigen Realitaten // Schriften. Bd. 1. Fragmente, Aufsatze, Aphorismen: zu einer Pneumatologie des Wortes. Munchen: Kosel, 1963. 1086 S.
- Ebner F. Notizen Tagebucher. Lebenserinnerungen // Schriften. Bd. 2. Notizen, Tagebucher, Lebenserinnerungen. Munchen: Kosel, 1963а. 1190 S.
- Habermas J. Erlauterungen zur Diskursethik. Frankfurt a/M., 1991. 229 S.
- Kurt F. Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der der Erste Weltkrieg. Berlin: EinVersuch. Alexander Fest Verlag, 2000. 448 S.
- Sacks J. The great partnership Science, religion and the search for meaning. New York: Schocken Books, 2012. 384 s.
- Verdrangter Humanismus - verzogerte Aufklarung. Band V: Im Schatten der Totalitarismen. Vom philosophischen Empirismus zur kritischen Anthropologie. Philosophie in Osterreich 1920-1951. / M. Benedikt, R. Knoll, C. Zehetner(Hg.) unter Mitarbeit von Endre Kiss. Wien, Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2005. 959 S.
- Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. отв. ред. О. Хаванова. М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1997. 318 с.
- Арендт Х. Уже не и еще не // Опыты понимания. 1930-1954. Становление, изгнание и тоталитаризм. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2018. С.287-293.
- Бауэр О. Австрийская революция. М.; Л. Гос. изд-во, 1925. 294 с.
- Ботстайн Л. Евреи и Новое время: О роли евреев в немецкой и австрийской культурах (18481938): Очерки. СПб.: Бельведер,2003. 464 с.
- Величко О.И. Национальный вопрос в австрийской общественно-политической мысли (19141920) // Народы Габсбургской монархии в 1914-1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств. М., 2011. Т. 1.С. 59-68.
- Гадамер Г.-Г. Философские основания ХХ века // Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 16-26.
- Джонстон У.М. Австрийский Ренессанс. Интеллектуальная и социальная история Австро-Венгрии, 1848-1938 гг. М.: Б.и., 2004. 633 с.
- ЛеРидер Ж. Венский модерн и кризис идентичности / пер. с фр. Т. Баскаковой. СПб.:Б.и., 2009, 720 c.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2000. 704 с.
- Мудрагей Н.С. Карл Ясперс о многоуровневой структуре сознания // Вопросы философии. 2015. № 12. С. 186-192.
- Нири К. Философская мысль в Австро-Венгрии. М.: Мысль, 1987. 190 с.
- Рикер П. Время и рассказ. Т. 1: Интрига и исторический рассказ. М.; СПб.: Университетская книга, 1998. 313 с.
- Рот Й. Вена. Репортажи 1919-1920. М.: Ад. Миргинем пресс, 2016. 112 с.
- Сартр Ж.П. Проблемы метода. М.: Академический проект, 2008. 221 с.
- Филиппов А.Ф. Новое об империи // Социологическая теория: история, современность, перспективы. СПб.: Владимир Даль, 2008. 831 с.
- Хабермас Ю. К архитектонике дифференциации дискурсов // Между натурализмом и религией. М.: Весь мир, 2011. С.76-95.
- Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2001. 380 с.
- Хабермас Ю. Публичное пространство и политическая публичность // Между натурализмом и религией. М.: Весь мир, 2011а. С.15-26.
- Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоминания европейца. М.: Вагриус, 2004. 346 с.
- Шарый А., Шимов Я. Корни и корона: Очерки об Австро-Венгрии: судьба империи. М.: КоЛибри, 2011. 448 с.
- Шимов Я. Австрия и Венгрия: идентичность на развалинах // Россия в глобальной политике. М.: Б.и., 2005. Т.3. № 6. С.62-77.
- Ясперс К. Духовная ситуация времени // Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. С.288-418.
- Ясперс К. Разум и экзистенция. М.: Канон; РООИ «Реабилитация», 2013. 336 с.