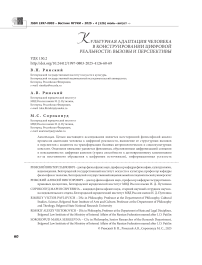Культурная адаптация человека в конструировании цифровой реальности: вызовы и перспективы
Автор: Римский В.П., Римский А.В., Сорокопуд М.С.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философская антропология
Статья в выпуске: 4 (126), 2025 года.
Бесплатный доступ
Целью настоящего исследования является всесторонний философский анализ процессов адаптации человека к цифровой реальности, выявление ее структурных вызовов и перспектив с акцентом на трансформации базовых антропологических и социокультурных констант. Отдельное внимание уделяется феноменам, обусловленным цифровизацией сознания и повседневности: цифровая амнезия (утрата способности к долговременному запоминанию из-за постоянного обращения к цифровым источникам), информационная усталость (когнитивная перегрузка вследствие избыточного информационного потока), цифровое неравенство (социальная стратификация на основе доступа к цифровым ресурсам) и мутация идентичности (формирование «цифрового Я» в сетевой среде). Актуальность проблемы подтверждается эмпирическими данными. По оценкам международных исследовательских агентств, более 60% пользователей интернета ежедневно испытывают трудности с концентрацией внимания, а около 45% молодежи в развитых странах сталкиваются с ощущением «цифрового одиночества», несмотря на постоянную онлайновую вовлеченность. В результате цифровая реальность не только облегчает доступ к информации, но и предъявляет к человеку новые экзистенциальные и этические требования. Авторы статьи предлагают концептуальный инструментарий для осмысления указанных феноменов с позиций современной философии, в том числе с привлечением идей М. Хайдеггера о технике как способе раскрытия бытия, теории сетевого общества М. Кастельса и анализа виртуальности у П. Вирилио. Исследование ориентировано на развитие критического дискурса о будущем человека в эпоху цифрового антропоценоза и формирование стратегии философской рефлексии, адекватной этим вызовам.
Адаптация, цифровая реальность, цифровая амнезия, информационная усталость, цифровое неравенство, мутация идентичности, инфозависимость, цифровые технологии
Короткий адрес: https://sciup.org/144163529
IDR: 144163529 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-4126-60-69
Текст научной статьи Культурная адаптация человека в конструировании цифровой реальности: вызовы и перспективы
Современное общество вступило в фазу глубоких онтологических и эпистемологических преобразований, обусловленных экспансией цифровых технологий, которые не просто трансформируют внешние формы бытия, но и проникают в саму ткань человеческого существования. Цифровая реальность перестает быть только виртуальной надстройкой над физическим миром, она становится автономной, саморегулируемой системой, в которую все более полно интегрируется человеческое сознание. Описанный процесс затрагивает фундаментальные характеристики человека (способы восприятия информации, практики коммуникации, механизмы памяти, формы идентичности и даже феномен времени).
Философия, традиционно ориентированная на поиск устойчивых оснований бытия и человеческого смысла, в новых условиях оказывается перед необходимостью переосмысления самой природы субъекта в условиях радикально измененной среды. Немецкий философ-экзистенциалист М. Хайдеггер отмечал, что «сущность техники не есть нечто техническое», она выражает способ раскрытия бытия [14, с. 221], и цифровая реальность является ярким примером такого «раскрытия», в котором человек все чаще выступает не как субъект, но и как функция в технической системе. В. А. Лекторский также подчеркивает, что современная техносфера меняет границы и внутреннюю структуру самого познания, требуя «интеграции философии с технонауками» [8, с. 158].
Одним из наиболее острых и малоосмысленных философски вызовов цифровой эпохи является трансформация природы человеческой памяти. Внимание исследователей привлек феномен, получивший название «цифровая амнезия» («digital amnesia»). Результаты экспериментального исследования Б. Спэрроу и ее коллег еще в 2011 году, показали, что люди, сталкиваясь с информацией, доступной в Интернете, демонстрируют сниженную склонность к запоминанию содержания, одновременно лучше запоминая путь к источнику информации, в частности, название сайта или поисковый запрос [17, с. 776]. Описанный эффект получил широкое распространение в научной и медийной среде, вызвав вопросы не только о когнитивных изменениях, но и об антропологических следствиях цифровизации. К примеру, молодые специалисты, входящие в профессиональное сообщество, все чаще не стремятся к накоплению системных знаний в своей области, полагаясь на мгновенный доступ к справочным ресурсам (Google Scholar или Wikipedia). Подобное поведение становится новой нормой; по сути, мы наблюдаем переход от эпистемологической автономии к формату распределенного знания, когда функция запоминания делегируется внешним цифровым носителям.
Французский философ Б. Стиглер в этом контексте предупреждает об угрозе «пролетаризации», при которой человек утрачивает навыки индивидуального мышления и запоминания, передавая их машинам [12, с. 98].
Канадский культуролог и философ Г. Маклюэн еще в 1990-х писал о деградации смысловых структур сознания под воздействием фрагментированной информации, поступающей в режиме реального времени [10, с. 323]. В более современных исследованиях отмечается, что цифровая среда способствует клиповому мышлению, при котором глубинное осмысление заменяется реактивным восприятием [5, с. 80].
В итоге можно отметить, что цифровая амнезия – это не просто когнитивное следствие зависимости от Интернета, а симптом более глубокой трансформации субъекта, находящегося в процессе постоянной реконфигурации. Нарушается структура памяти как фундаментальной категории человеческого существования (ее длительность, направленность, культурная значимость). Возникает вопрос, можно ли говорить о человеке как об автономном эпистемологическом агенте в условиях, когда основное знание уже не принадлежит ему, а обитает в сетевых контурах, подконтрольных корпорациям и алгоритмам? Ответ на этот вопрос потребует не только философского анализа, но и междисциплинарной дискуссии с участием психологов, социологов, нейрофизиологов. Однако ясно одно: феномен цифровой амнезии должен стать не просто объектом критики, но и отправной точкой в проектировании новых образовательных и культурных практик, способных вернуть человеку когнитивную целостность и субъектность в мире, в котором память уже не только внутренний акт, но и распределенный технологический процесс.
Если цифровая амнезия представляет собой редукцию памяти как психофизиологической функции, то феномен информационной усталости указывает на более широкий антропологический и культурный сдвиг, истощение когнитивного ресурса человека в условиях гиперкоммуникационной среды. Впервые эта проблема была озвучена в работах Э. Тоффлера, в его книге «Шок будущего» («Future Shock»), в которой он описывал «чрезмерный выбор» (choice overload) как когнитивное нарушение, при котором людям трудно принять решение, когда они сталкиваются с множеством вариантов, и неспособность человека справляться с нарастающим объемом информации [13, с. 324]. Сегодня эти предвидения обрели зримую форму, каждый день человек сталкивается с десятками гигабайт данных (текстов, изображений, видео, уведомлений), что приводит к состоянию перманентного когнитивного стресса.
По данным исследований, около 70% людей признают, что не смогут провести 24 часа без смартфона. Такое явление получило название «инфозависимости» (информационной аддик-ции) и стало предметом изучения как в нейропсихологии, так и в философии сознания [11, с. 64]. В практическом измерении информационная усталость проявляется в снижении концентрации, поверхностности мышления, неспособности к длительной ментальной фокусировке и формированию долгосрочных умозаключений.
Б. Латур связывал подобные процессы с переходом от модернистской культуры «глубины» к постмодернистской культуре «поверхности», в рамках которой знание больше не является внутренним достоянием, а существует в режиме «мгновенной репрезентации» [7, с. 133]. Б. Г. Юдин интерпретировал феномен нарастающей социальной и когнитивной усталости как симптом глубинной «антропологической нестабильности», сопряженной с прогрессирующим размыванием границ между знанием и информацией [16, с. 278]. В рамках современной цифровой трансформации особое значение приобретает зона напряженности на стыке «человек-машина», которую Б. Г. Юдин обозначал как одну из ключевых точек антропологического сдвига. В сфере электронного здравоохранения возникают новые философско-антропологические коллизии, связанные с включением в коммуникационнодеятельностный контур дополнительного актора, высоко автономной социотехнической системы, представленной, в частности, робо- тизированными комплексами и платформами анализа больших данных.
Одним из проявлений данной нестабильности становится утрата социумом прежней степени поведенческой предсказуемости, особенно заметной в фазе острого социального кризиса, которая характеризуется процессами дезинтеграции (распадом социокультурной целостности на атомизированные индивидуальные субъекты) и одновременно, парадоксальным образом, активной фрагментацией общества на множество новых локальных образований – этноконфессиональных, религиозных, сословно-корпоративных. Такая дестабилизация отражает более широкие трансформации в сфере идентичности, субъектности и структур социального взаимодействия, обостренные в условиях перехода к цифровой конструируемой реальности.
Информационная усталость также тесно связана с концепцией «психической экологии», предложенной Ф. Гваттари. Французский психоаналитик подчеркивает, что информационное перенасыщение разрушает «экосистему сознания», лишая его способности к автономному смыслообразованию [4, с. 63]. Мы больше не «читаем» реальность, а «сканируем» ее, лишаясь опыта глубинного проживания информации.
С философской точки зрения, данная трансформация требует переосмысления самого понятия свободы. Если в классической традиции (от Аристотеля до И. Канта) свобода мыслится как способность к автономному рациональному выбору, то в условиях информационной перегрузки человек оказывается парализованным не от отсутствия, а от избытка альтернатив. По мнению философа Бюнг-Чуль Хана, современное общество представляет собой «общество усталости», в котором люди выгорают не из-за внешнего подавления, а от избыточной самонагрузки, культивируемой цифровой средой [8, с. 49].
Информационную усталость можно определить не просто как побочный эффект цифровой эпохи, а как глубоко укорененную структурную характеристику современного человека, которая разрушает целостность сознания, снижает порог критического мышления и делает субъекта все более податливым внешнему управлению через алгоритмы, рекомендации и поток «шума». В этой связи становится актуальной задача философской критики информационного изобилия – не в смысле технофобии, а как проекта выработки новых форм цифровой аскезы, интеллектуальной дисциплины и этики мышления.
Наряду с когнитивными и экзистенциальными изменениями, вызванными цифровой трансформацией, существенное значение приобретает феномен цифрового неравенства, структурного разрыва между различными группами населения – в доступе к цифровым ресурсам, в навыках обращения с ними, возможностях участия в цифровом общественном пространстве. Разрыв отражает не просто технологическую, но и социальную асимметрию, закрепляющую существующее экономическое и культурное неравенство.
Понятие цифрового неравенства было впервые предложено в середине 1990-х годов в работах испанского постмарксиста М. Кастельса, рассматривающего «сетевое общество» как новую форму социальной организации, в которой ключевым ресурсом становится не материальный капитал, а доступ к информации и способность ее перерабатывать [6, с. 505]. Согласно мнению философа, те, кто не включен в глобальные потоки информации, оказываются «структурно выключенными» из механизмов производства смысла и принятия решений. На эмпирическом уровне одним из ключевых вызовов цифровой трансформации выступает феномен цифрового неравенства, выражающийся в неравномерном доступе к инфраструктуре сетевого взаимодействия, к цифровым платформам образования и здравоохранения, а также в асимметрии цифровых компетенций, наблюдаемой между поколениями, социальными слоями и регионами. Такая структурная асимметрия в доступе к цифровым ресурсам усиливает существующие социальные стратификации и ограничивает возможности субъектов в сфере саморазвития, получения образования и интеграции в экономику знаний.
Отсутствие широкополосного интернета, особенно в сельских и труднодоступных районах, не просто снижает доступ к информации и сервисам, оно порождает устойчивые формы цифровой маргинализации, препятствующие реализации базовых прав на образование, медицинское обслуживание и участие в социальной жизни. Так, ограниченный доступ к образовательным цифровым платформам у семей с низким доходом коррелирует с более низкими образовательными результатами учащихся, что требует от них значительно больших усилий для достижения базовых целей обучения. Происходит воспроизводство замкнутого круга неравенства в условиях формальной доступности образовательных ресурсов.
Кроме того, цифровой разрыв усиливается различиями в уровне цифровой грамотности, особенно между поколениями. Представители старших возрастных когорт зачастую демонстрируют устойчивую сопротивляемость к освоению новых технологических практик, что углубляет их отчуждение в цифровой среде и затрудняет адаптацию к стремительно меняющемуся технологическому ландшафту. Такая ситуация требует переосмысления философско-антропологических оснований цифрового включения, а также – разработки справедливых стратегий адаптации, ориентированных на признание и преодоление многоуровневого цифрового неравенства как барьера на пути к инклюзивной цифровой реальности.
Например, во время пандемии COVID-19 переход на дистанционное образование выявил колоссальные различия в технической обеспеченности семей. В российских регионах школы фиксировали случаи, когда несколько детей из одной семьи были вынуждены учиться с одного смартфона без стабильного интернета, что объективно снижало качество образования и углубляло образовательное расслоение.
С философской точки зрения, цифровое неравенство не может быть редуцировано исключительно к разрыву в технической инфраструктуре или ограниченному доступу к сетевым ресурсам. Гораздо более глубокое измерение данной проблемы раскрывается при ее рассмотрении сквозь призму теории символических структур современного общества. В частности, категория цифрового капитала оказывается тесно связанной с понятием символического капитала, разработанным П. Бурдье, через интермедиарную конструкцию так называемого «сетевого капитала». Цифровой капитал следует понимать не только как совокупность ресурсов, обеспечивающих доступ к цифровой среде, но и как наличие у субъектов устойчивых паттернов использования цифровых технологий, связанных с различными целевыми установками (от прагматических до экзистенциальных). Именно эти практики и установки формируют потенциал для превращения цифровых ресурсов в сетевой капитал, который проявляется как способность эффективно активировать и институционализировать социальные связи в пространстве Интернета.
В данном контексте сетевой капитал следует трактовать как результат успешной социальной реализации в цифровой среде, благодаря которой акторы получают возможность конституировать, укреплять и транслировать свой символический статус. В итоге цифровой и сетевой капиталы включаются в сложные процессы социальной стратификации и становятся механизмами культурного воспроизводства в условиях цифровой конструируемой реальности. Такое обстоятельство требует перехода от чисто функционального к структурнокритическому анализу цифрового неравенства, в рамках которого особое внимание уделяется не только доступу, но и способности субъектов к смыслополаганию, социальному позиционированию и участию в создании ценностей в цифровом пространстве.
Обладая «цифровым капиталом», субъект получает доступ к новым формам социальной мобильности, коммуникации и влияния. И, напротив, его отсутствие ведет к социальной изоляции и снижению культурной репрезентативности. В итоге цифровая среда, претендующая на универсальность, парадоксальным образом производит новые формы исключения и иерархии.
Французский философ и антрополог Б. Стиглер в ряде своих поздних работ подвергает критическому анализу парадоксальные эффекты цифровой экономики знаний, указывая на то, что за фасадом ее кажущейся доступности и демократичности скрывается глубокая структурная асимметрия в доступе к времени мышления – ключевому ресурсу для критического осмысления, формирования субъективности и межпоколенческой трансляции опыта [12]. По его мнению, нарастающая алгоритмизация когнитивной среды ведет к своего рода «короткому замыканию» общественных связей, в особенности в сфере образования и культурной преемственности, в рамках которой процессы понимания и интерпретации вытесняются статистически управляемыми цифровыми процедурами.
Алгоритмические системы, будучи по своей природе вероятностными, не столько усиливают индивидуальное различие, сколько склонны к нормативному усреднению, провоцируя реактивное, стадное поведение и поощряя потребление мгновенных, фрагментарных стимулов вместо углубленного размышления. В этом контексте цифровое неравенство предстает не только как экономическое или технологическое, но и как антропологическое различие типов цифрового взаимодействия. Одни группы используют цифровые технологии как средства смыслопорождения и творческой коллаборации, другие же – преимущественно как механизмы развлечения и отвлечения, функционирующие в логике пассивного потребления.
В качестве возможной стратегии выхода из этой деструктивной динамики Б. Стиглер предлагает концепт «контрибутивной экономики», ориентированной на кооперативное производство знаний и смыслов в рамках горизонтальных цифровых сообществ. Примерами такой практики служат проекты с открытым исходным кодом и платформы вроде Wikipedia, в рамках которых цифровые технологии становятся не объектом отчуждения, а пространством для продуктивного и ответственного участия. С этой точки зрения адаптация к конструируемой цифровой реальности требует не только инфраструктурного включения, но и формирования новых культурных форм цифровой субъектности, способной к сопротивлению алгоритмической гомогенизации.
В итоге, вопреки утопическим ожиданиям, цифровая реальность не ведет к стиранию социальных границ, а напротив – конструирует новые формы стратификации, в которых власть принадлежит тем, кто управляет кодом, данными и архитектурой цифровых платформ. Философская задача сегодня заключается в критическом анализе этих структур и разработке механизмов «цифровой справедливости», направленных не только на выравнивание доступа, но и на воспитание субъектности в цифровом мире.
Вектор дальнейших исследований в области цифрового неравенства, цифрового капитала и цифровой включенности, на наш взгляд, должен быть направлен на разработку и теоретическую артикуляцию тех аспектов, которые до настоящего времени остаются на периферии академического дискурса, несмотря на их очевидную значимость в контексте ускоряющейся цифровизации социальной среды. Особого внимания заслуживает исследование цифрового капитала как гибридной и интегральной категории, сочетающей в себе как материальные (доступ к инфраструктуре), так и нематериальные (компетенции, практики, символические ресурсы) компоненты, и одновременно интегрирующей уже выделенные ранее элементы (доступ, цифровую грамотность и пользовательские навыки).
Перспективным направлением представляется не только концептуальное осмысление природы и структуры цифрового капитала (включая разработку типологий акторов его формирования, индексов цифрового капитала, а также методологических подходов к его измерению), но и прикладные аспекты повышения его уровня. В этом контексте особую роль играют стратегии медиаобразования и развитие информационной и цифровой грамотности как необходимых условий субъектной включенности в цифровое пространство.
Не менее значимым является философско-антропологический подход к цифровому капиталу как характеристике «человека медийного» (существа, формирующего свою идентичность в условиях тотальной медиации). В современных медиакультурах цифровой капитал приобретает статус символического ресурса, определяющего границы участия в цифровой культуре, в том числе в процессах смыслопро-изводства, социальной мобильности и институциональной репрезентации.
Важнейшей задачей на этом пути становится выработка стратегий преодоления цифрового неравенства, как на глобальном, так и на национальном и региональном уровнях, с учетом социокультурной и инфраструктурной специфики отдельных территорий. В этом контексте заслуживает внимания идея создания «цифрового паспорта региона» как инструмента для картирования локальных особенностей цифрового включения. Разработка целостной модели цифрового неравенства, отражающей сложную этнокультурную и социальную конфигурацию многонационального российского общества, способна стать методологической основой для формирования обоснованных рекомендаций органам государственной власти, бизнес-структурам и институтам гражданского общества, направленных на снижение цифрового разрыва на всех его уровнях – инфраструктурном, компетентностном и символическом [3, с. 24].
Одним из наиболее радикальных и, одновременно, недостаточно осмысленных последствий цифровизации является трансформация субъектности, самого способа существования человека как «Я». Цифровая среда не просто сопровождает субъекта, она соучаствует в его формировании. Виртуальные аватары, профили в социальных сетях, алгоритмически формируемые «информационные пузыри» и практика постоянной цифровой самопрезен-тации способствуют конституированию особой формы идентичности (цифрового «Я»), которая во многом отличается от классического представления об индивидуальности как цельной, внутренне непротиворечивой сущности.
Если в модернистской философии субъект рассматривался как автономный носитель разума, то постструктурализм разрушил эту модель, предложив трактовать идентичность как дискурсивную конструкцию. В цифровую эпоху процесс конструирования «Я» достигает нового уровня. Французский философ Ж. Бодрийяр, говоря о симулякре, предвосхищал ситуацию, в которой субъект растворяется в бесконечной цепи репрезентаций [2]. Цифровая идентичность это, по сути, симулякр, не то, кем человек является, а то, как он себя оформляет и предъявляет в интерфейсе. Например, пользователь Instagram может ежедневно публиковать тщательно отредактированные фрагменты своей жизни, создавая образ, зачастую не соответствующий действительности. Презентуемый образ начинает оказывать обратное влияние на реальное «Я», формируя зависимости, тревожность, депрессию [9, с. 43]. Согласно современным исследованиям, подростки сообщают о том, что чувствуют себя «недостаточно хорошими», сравнивая себя с образами, увиденными в социальных сетях. Подобные эффекты представляют собой не побочные явления, а признаки системного конфликта между внутренней идентичностью и внешней цифровой маской. Цифровое «Я» часто множественно и контекстуально. Пользователь может вести разные аккаунты с разной степенью искренности и ролевой включенности, создавая тем самым неустойчивую, гибридную субъектность. Важно подчеркнуть, что цифровая идентичность таит в себе не только угрозы, но и возможности. Для многих людей (особенно представителей маргинальных групп) цифровая среда становится пространством безопасной самопрезентации и свободы.
Таким образом, цифровое «Я» – это текучая, сетевая организованная форма субъективности, которая требует новых категорий философского осмысления. Уже не субъект рационального действия, а гибрид, существующий на стыке биологического тела, социальной роли и цифрового интерфейса. В этих условиях философия получает уникальный шанс не столько защищать традиционное понимание субъекта, сколько участвовать в проектировании его новых форм, адекватных цифровому ландшафту XXI века.
В условиях стремительной дигитализации человеческого бытия философия вновь оказывается перед необходимостью переопределить ключевые антропологические, онтологические и этико-политические параметры человеческого существования. Цифровая реальность больше не является внешним фоном, она становится пространством, в котором разворачиваются фундаментальные процессы идентификации, познания, коммуникации и формирования общественных институтов. Вызовы цифровой эпохи (цифровая амнезия, информационная усталость, неравенство доступа и трансформация идентичности) требуют не только критического анализа, но и разработки проектных, конструктивных моделей адаптации субъекта.
Адаптация к цифровому ландшафту может быть рассмотрена как переход от реактивной (пассивной) формы взаимодействия с информационной средой к проактивной, к осознанному проектированию своей цифровой траектории. Здесь особое значение приобретает категория субъектности как способности к саморефлек-сии, выбору и экзистенциальной ответственности в условиях многомерной реальности. В эпоху технологического устроения человек рискует потерять свою подлинность, становясь функцией технического аппарата. Этот риск сегодня реализуется в виде растворения «Я» в потоках алгоритмически структурированной информации.
Однако в самом цифровом поле заключен и потенциал сопротивления. Концепция «цифровой аскезы», развиваемая рядом современных философов (Б. Сноу), предлагает стратегию отказа от беспорядочного потребления информации и возвращения к «медленному мышлению». В этом контексте важно развитие навыков цифрового самоуправления от фильтрации контента до сознательного ограничения экранного времени, от критической оценки источников до выработки интеллектуальной дисциплины. Подобные практики следует рассматривать не как технику тайм-менеджмента, а как новые формы философской практики, своего рода «цифровой стоицизм», когда разум снова обретает суверенитет.
На современном этапе развития общества актуальной видится философская задача не только интерпретировать мир, но и формировать техники себя, которые позволяют субъекту оставаться свободным в условиях структурирующих властных систем. Цифровое пространство сегодня – это такая же система власти, как дисциплинарное общество XIX века. Следовательно, субъекту необходимо овладеть новыми практиками свободы, в том числе через философское образование, развитие цифровой грамотности и этики интерфейса.
На институциональном уровне перспективной представляется разработка гуманитарных и философских компонентов в образовательных стратегиях цифровой эпохи. Необходима интеграция курсов по цифровой философии, этике алгоритмов, теории интерфейсов и киберсоциологии. Указанные дисциплины способны формировать критическое мышление, устойчивость к манипуляциям, понимание механизмов цифровой власти и, главное, способности к осмысленному проживанию собственного опыта в условиях сетевой реальности.
Кроме того, стоит выделить перспективу разработки новых нормативных и правовых рамок для цифровой идентичности (от закрепления права на «цифровое забвение» до этики цифровой репутации). Философия здесь может выполнять функцию медиатора между правом, культурой и технологией, формируя метауровень рефлексии.
В заключении отметим, что цифровая адаптация не столько проблема приспособления, сколько задача философского проектирования субъекта, способного жить в эпоху постоянной изменчивости, множественности и информационного изобилия. Именно философия, как дисциплина, осмысляющая границы возможного и условия человеческого, сегодня оказывается наиболее востребованной в поиске ответов на вызовы цифровой реальности. Не отвергая цифровое, но и не растворяясь в нем, она предлагает путь критического соучастия, путь, на котором мысль обретает новое пространство свободы.