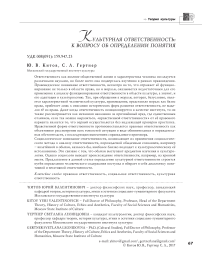Культурная ответственность: к вопросу об определении понятия
Автор: Китов Юрий Валентинович, Гертнер Светлана Леонидовна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 6 (80), 2017 года.
Бесплатный доступ
Ответственность как явление общественной жизни и характеристика человека исследуется различными науками, но более всего она подверглась изучению в рамках правоведения. Правоведческое понимание ответственности, несмотря на то, что отражает её функционирование не только в области права, но и морали, оказывается недостаточным для его применения к анализу функционирования ответственности в области культуры, а значит, и его адаптации в культурологию. Так, при обращении к морали, которая, безусловно, является характеристикой человеческой культуры, правоведение, представляя мораль как базис права, прибегает лишь к описанию исторических форм развития ответственности, не выделяя её из права. Даже когда ответственность позиционируется в качестве института, то он также рассматривается как механизм наказания за причинённый вред, где единственным отличием, если так можно выразиться, «нравственной ответственности» от её правового варианта является то, что первый осуществляется без надлежащей проверки проступка. Нравственной форме ответственности противопоставляется правовая ответственность как объективное рассмотрение всех тонкостей ситуации в виде обвинительных и оправдательных обстоятельств, с последующим вынесением справедливого приговора. Социологическое понимание ответственности, возникающее из применения социологического метода к анализу ответственности, порождаемой обыденным сознанием, например - вплетённой в обычаи, казалось бы, наиболее близко подходит к культурологическому её истолкованию. Это связано с тем, что обычаи выступают предметом изучения в культурологии. Однако социологи выводят происхождение ответственности, например, из кровной мести. Предлагаемое в данной статье определение культурной ответственности строится путём определения человеческого содержания поступка и вбирает в себя диалектику позитивной и негативной ответственности.
Правовая ответственность, социальная ответственность, культурная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/144160749
IDR: 144160749 | УДК: 008(091):159.947.23
Текст научной статьи Культурная ответственность: к вопросу об определении понятия
1КИТОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории, истории культуры, этики и эстетики социально-гуманитарного факультета Московского государственного института культуры
KITOV YURI VALENTINOVICH – Full Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department Theory, History of Culture, Ethics and Aesthetics, Faculty of Social Sciences and Humanities, Moscow State Institute of Culture
2ГЕРТНЕР СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА – кандидат культурологии, доктор философских наук, профессор кафедры теории, истории культуры, этики и эстетики социально-гуманитарного факультета Московского государственного института культуры
GERTNER SVETLANA LEONIDOVNA – Ph.D. (Cultural Studies), Full Doctor of Philosophy, Professor of the Department Theory, History of Culture, Ethics and Aesthetics, Faculty of Social Sciences and Humanities, Moscow State Institute of Culture
Yu. V. Kitov, S. L. Gertner
Moscow State Institute of Culture, Ministry of Culture of the Russian Federation (Minkultury), Bibliotechnaya str., 7, 141406, Khimki city, Moscow region, Russian Federation
CULTURAL RESPONSIBILITY: TO THE QUESTION
OF THE DEFINITION OF THE CONCEPT
Проблема ответственности составляет в основном предмет интереса правоведов, а потому получила своё наиболее полное рассмотрение в юридической литературе. Обращение к ответственности при изучении вопросов, посвящённых политике, экономике, социальной сфере и т.д., требует именно юридического понимания ответственности, что не способствует прояснению её культурологического содержания. Наиболее близкое к культурологии понимание ответственности предлагается самими правоведами, когда они обращаются к размежеванию областей общественной практики, покрываемых категориями морали и права. Однако их понимание морали как области функционирования ответственности, как правило, ограничивается описанием исторического становления ответственности как правовой категории, либо указывается на нравственность как на область её формирования, которая, однако, не даёт оснований для чёткого определения ответственности. Вот типичный пример дискуссии об ответственности, содержащийся в работе, посвящённой изучению её социальной и правовой разно- видности. Автор говорит об отличных от правовой ответственности других её формах в сослагательном наклонении и подвергает критике до- и внеправо-вые формы ответственности: «Начало этого института (института ответственности. – Ю. К., С. Г.), вероятно, было связано с наказанием одного человека другим или группой лиц за причинённый вред, причём без какого-либо расследования (если вообще данный термин здесь допустим) или должной проверки происходящего. Внешне данный способ наказания также выглядел ответственностью, истоки которого, как правило, шли от известного обычая “око за око, зуб за зуб”, когда инициатива наказания в основном исходила от пострадавшего или узкой группы его представителей (рода). Однако такой вид “ответственности” не имел и не мог иметь ничего общего с правовыми механизмами объективного рассмотрения вины человека за причинённый вред и воздаяния при этом ему заслуженной кары в условиях равного рассмотрения обвинительных и оправдательных обстоятельств и с наложением заслуживаемого наказания [1, с. 27]». Когда речь заходит о социальной разновидности ответственности, то авторы, справедливо считая её атрибутом правовой разновидности, тем не менее занижают её регулирующую общественные отношения значимость, подчёркивая её несовершенство на фоне права. Это проявляется в том, что природа социальной ответственности выводится из кровной мести, и именно содержащаяся в кровной мести коллективность рассматривается как предтеча природы социальной ответственности. Положительным моментом здесь выступает лишь то обстоятельство, что сущностью кровной мести выступает не желание крови, а кровь как объединительная характеристика этнической группы, то есть родственные отношения. Естественно, следует обратить внимание на то, что такая характеристика этнично-сти свойственна примордиализму, который, в отличие, например, от конструктивизма или инструментализма, базируется на понимании этничности как «крови и почвы». Именно в этом ключе разворачивается рассуждение о связи социальной разновидности ответственности с кровной местью в работе Г. В. Мальцева. Учёный считает, что кровная месть развивалась как древнейший правовой институт [4, с. 217].
Другой стороной ответственности, подчёркиваемой учёными-некультуроло-гами, является её санкционная функция. То есть основной функцией ответственности в обществе считается санкция как ответ на неверно совершенное действие. Для понимания того, как ответственность функционирует в праве, опора на санкцию не деформирует её сущность. Однако в случае попыток понимания того, как ответственность действует в культуре, например – в культуре нравственной, санкция выглядит однобокой, вносит элемент частичности, лишает ответственность такой характеристики, как целостность. Культурологическое объяснение явления предполагает не просто фиксацию отдельного его проявления в культуре, но рассмотрение его как культурного явления. Поэтому, наряду с существованием ответственности в виде санкции, нельзя отказывать ей, например, в существовании в виде «угрызений совести», не говоря уже о более сложных психологических состояниях человека, определяемых его принадлежностью к той или иной культуре.
Так, для культурологии совершенно неприемлемым является обстоятельство, когда функционирование ответственности в виде санкции абсолютизируется и используется для понимания природы и механизма функционирования моральной ответственности. Ведь моральная ответственность выходит за пределы действия права, характеризует нравственную культуру человека, а значит, может быть рассмотрена как предмет культурологии. Санкция, безусловно, действует и в нравственной сфере, что позволяет её характеризовать как функцию ответственности, однако её природа уже иная. Санкция уже не выступает в виде, например, статьи уголовного кодекса, а как одобрение или осуждение поступка человека: «Понять суть нравственной ответственности невозможно без выявления нравственных санкций – одобрения или осуждения поступков людей [2]».
Важным для культурологического понимания ответственности является её связь с человеком, с его сознанием, то есть с субъектом ответственности. Требование связи человека с ответственностью для её культурологической интерпретации проистекает из понимания культуры как продукта человеческой деятельности, а человека не просто как объекта культурного воздействия, но как субъекта культуры. Внекульту-рологические концепции ответственности, насколько бы продуктивными ни были их механизмы её регулирования, не только не озабочены постоянной связью ответственности с человеком как её субъектом, но, в силу своих оснований, стремятся вывести человека за пределы принятия решения об ответственности, максимально освобождая её от влияния со стороны субъекта. Более того – объективируя её. Так, стремление к объективности в юридических науках венцом развития ответственности считает делегирование её от человека государству: «И лишь с рождением государства, а вместе с ним и различных судебных органов, хотя бы в лице главы государства (поселения, города), понятие ответственности стало переходить на общественный и государственный уровень. Люди передали часть своих прав, свобод и обязанностей государству, а следовательно, и доверили назначение ответственности должностным лицам, выступающим от их имени при наличии причинения какого-либо вреда [6, с. 27]». Государство рассматривается не только как самый лучший субъект ответственности, но как её единственный субъект, деятельность которого в связи с ответственностью позиционируется как благо для человека: «Одновременно такой общественный договор по передаче функций привлечения к ответственности за причиненный вред государственным органам позволял самим гражданам быть более защищаемыми от посягательств на их жизнь, здо- ровье и имущество от имени того же государства [6, с. 27]». Окончательное определение социальной ответственности оказывается следующим: «В современном понимании социальная ответственность – это выбираемый обществом или государством процесс принуждения в виде избрания вида и размера применяемых карательных санкций к конкретному лицу за нарушение им общественных и нормативных правил поведения [6, с. 28]».
Проблема не в том, что юридическое понимание ответственности имеет свою специфику, а в том, что внутри правоведения осуществляются попытки определения социальной ответственности через юридическую, а значит, появляется возможность детерминации правом содержания культурной ответственности в областях существования культурной, не покрываемой правом сферы: «… Развитие категории социальной ответственности с переходом на уровень правовой ответственности имело долгий путь развития, когда право на наказание было передано с индивидуально-коллективного уровня на общественно-государственный [6, с. 28]».
Не менее проблематичным для культурологии является понимание ответственности, выдвигаемое экономистами. Объективный, автоматический характер ответственности за несоблюдение правил в бизнесе составляет её идеальную форму в экономике, так как является важной формой сохранения или отчуждения капитала. Вместе с тем для культурологии само понимание капитала оказывается невозможным без его субъекта, который связан с капиталом абсолютно, именно поэтому спецификой культурного капитала является не только невозможность его накопления кем-то другим, но и принципиальная невозможность его отчуждения от субъекта. Этот феномен обстоятельно изучен в концепции культурного капитала П. Бурдье [1].
В то же время в каждой из некультурологических наук, изучающих ответственность как характеристику культуры, содержится знание, содержание которого пересекается с содержанием ответственности, постулируемым куль- турологией. Такое знание порождается в случаях, когда предметом характеристики ответственности является культура или культурная деятельность, либо когда представитель некультурологической науки анализирует природу ответственности как таковой, в самых общих её характеристиках, то есть в случаях, когда, скажем, юрист становится философом. Философия, как известно, является не наукой над наукой, а наукой в науке и всякий раз проявляет свою значимость при изучении общих вопросов. Один из известных философов утверждал, что в принципе нельзя решить частные вопросы, не решив общих. Поэтому, когда при формулировании юридической ответственности учёные обращаются к общим основаниям права, они в состоянии прояснить и то, как правовая ответственность в состоянии пересечься с культурной ответственностью. Хорошую возможность для понимания вышесказанного даёт обращение к пониманию права И. Кантом, который утверждал, что принцип права требует поступать внешне так, чтобы свобода произволения каждого была совместима со свободой каждого, сообразной со всеобщим законом [3, с. 254]. Культурологическая важность такого утверждения для понимания ответственности состоит в том, что в понятие всеобщего закона вполне входит и деятельность человека в области культуры, а следовательно, и его культурное сознание. Всеобщность закона по определению включает его действие в культуре. Она, безусловно, касается регулирования культурных отношений, реальных и воображаемых, как и всего многообразия субъектов, которые в такие отношения вступают. Несомненно, что в отношения по созданию, сохранению и распространению культурных ценностей вступает государство. Его регулирующая и определяющая роль непременно важна. Но насколько бы совершенной ни была государственная деятельность, она не охватывает всё общество в его многообразии, в его всеобщности, как и не в состоянии проконтролировать мысли человека, которые дают импульс той или иной его деятельности. В праве нельзя наказать за намерения, до совершения поступка, право не в состоянии задать человеку «муки совести», которые приводят его в конечном счёте к самонаказанию, в ситуации, когда его действия оказываются неподконтрольными праву. Классической иллюстрацией сказанному является поведение Раскольникова, признающего вину, когда такое признание оказывается недостижимым путём использования правовых средств, а только средств совести. Такое действие проистекает под влиянием более действенных механизмов, нежели слежка, наблюдение, прослушивание и т.д., используемых для установления противоправного действия, так как является элементом нравственного сознания, сообщающего человеку чувство ответственности за свои поступки, особенно в ситуации, когда они оказываются невидимыми другим, а потому избегающими правовой оценки. Именно этим качеством обладает культура, а вместе с ней и культурная ответственность – она действует даже тогда, когда все известные «объективные» формы и разновидности ответственности не действуют. Если культура есть сущностная характеристика человека, отличающая его от всех других живых существ, а сегодня и умных машин и роботов, то культурная ответственность затрагивает не просто одну из сторон человеческой жизни, а её сущность. Таким образом, культурная ответственность есть абсолютная форма ответственности человека перед всеми людьми и перед самим собой. Поэтому, когда предметом ответственности является человечество, человеческое содержание поступка, реальное и воображаемое, – перед нами культурная ответственность. Культурная ответственность отличается от юридической не только содержанием, но и формой, которая вбирает в себя диалектику негативной и позитивной ответственности. Вот как определяется позитивная ответственность в праве: «Позитивная ответственность понимается как обязанность индивида действовать в соответствии с требованиями социальных и правовых норм, или, иными словами, позитивная ответственность направлена на будущее, на потенциальное применение норм ответственности за возможность совершенного нарушения, то есть знания человека о предстоящей ответственности, чувство возможного наказания, по мнению сторонников данной позиции, удерживают его от совершения правонарушений [6, с. 29]».
Позитивная ответственность является формой культурной ответственности на правах понимания культуры как идеи. Такое понимание, развитое В. Межуевым на основе адаптации в науку о культуре философского учения В. Копнина о заключенном в идее образе желаемого будущего, и является объяснительным принципом позитивной ответственности как формы культурной ответственности. Культурфилософская суть подхода В. Межуева состоит в том, что культура человека является ему не только в практике, но и в идее, то есть в том, чего нет в материальной реальности, но что является возможным. «По словам П. В. Копнина, – пишет В. Межуев, – в идее предмет отражается в аспекте идеала, то есть не только таким, как “он есть”, но и каким “должен быть”. Идея направляет практическую деятельность, образуя идеальную форму будущей вещи или процесса [5, с. 16]».
Транслируемое в область ответственности такое понимание культуры отвечает требованию большой «внутренней» работы человека, приводящей его к культурно значимым выводам. Иными словами, ответственность в её культурной форме, то есть как позитивная ответственность, возникает априори и оказывается результатом психической деятельности человека. Неудивительно, что культурологическое понимание ответственности, по определению включающее образ желаемого будущего, не вкладывается в правонарушительный подход, а потому и не устраивает правоведов: «Однако понимание так называемой позитивной ответственности говорит фактически об ответственности без совершаемого социального нарушения или правонарушения. Но возможно ли такое допущение меры ответственности в позитивном определении, которое происходит через психологическое отношение людей к праву с неким прогнозированием своего поведения? [6, с. 29]». Учёные-правоведы не видят такой возможности: «… поскольку речь идёт о внутренней психической картине, где нет действия самого права в виде каких-либо механизмов или реального применения его категориального аппарата [6, с. 29]».
Действительно, реальное применение категориального аппарата ответственности по отношению к внутренней психической картине, создаваемой человеком под влиянием его культуры, оказывается за пределами права, а поэтому и не может быть описано ни в правовой, ни в юридической, ни в какой-либо иной терминологии, но только в терминологии науки о культуре. Естественно, данная терминология не может быть проверена математически или с применением методов точных наук. Более того, даже внутри культурологического знания понятие «культурная ответственность» является только становящимся и подлежащим практической верификации. В этих целях могут быть использованы разнообразные практики различных субъектов. Мы использовали данное понятие при изучении культуры региональной элиты. Наше обращение к изучению ответственности региональной элиты было обусловлено тем, что в своей деятельности она принимает решения, затрагивающие судьбы других людей. Поэтому, когда деятельность элиты не столько контролируется правоприменительными практиками, сколько образом желаемого будущего, в центре которого находится благополучие управляемого ею регионального сообщества, то наличие культурной ответственности может быть установлено в деятельности региональной элиты. Элита избрана предметом анализа культурной ответственности ещё и потому, что она принимает решения в области комплекса областей деятельности, среди которых, безусловно, находится и культура. В качестве средства проникновения в область ответственности элиты были использованы её культурные интересы.
Список литературы Культурная ответственность: к вопросу об определении понятия
- Бурдье П. Формы капитала (перевод М. С. Добряковой) // Экономическая социология. 2002. Том 3, № 5. С. 60-75.
- Иванников А. И. Моральная и юридическая ответственность // Северо-Кавказский юридический вестник. 2017. № 3. С. 49-54. DOI: 10.22394/2074-7306-2017-1-3-49-54
- Кант И. Метафизика нравов // Собрание сочинений: в 8 томах: юбилейное издание 17941994: [перевод с немецкого] / под общ. ред. А. В. Гулыги. Москва: Чоро, 1994. Том 6.
- Мальцев Т. В. Месть и возмездие в древнем праве: монография. Москва: Норма: Инфра-М, 2012. 735 с.
- Межуев В. М. Идея культуры: очерки по философии культуры. Москва: Университетская книга: Прогресс-Традиция, 2012. 405 с.
- Халиков А. Н. Социальная и правовая ответственность человека // Lex Russica. 2015. № 8. C. 26-35.