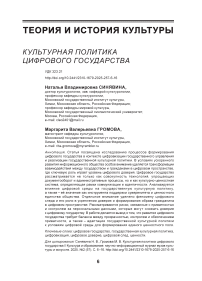Культурная политика цифрового государства
Автор: Синявина Н.В., Громова М.В.
Журнал: Культура и образование @cult-obraz-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (57), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию процессов формирования цифрового государства в контексте цифровизации государственного управления и реализации государственной культурной политики. В условиях ускоренного развития информационного общества особое внимание уделяется трансформации взаимодействия между государством и гражданами в цифровом пространстве, где ключевую роль играет уровень цифрового доверия. Цифровое государство рассматривается не только как совокупность технологий, упрощающих документооборот и административные процессы, но и как культурно-ценностная система, определяющая рамки коммуникации и идентичности. Анализируется влияние цифровой среды на государственную культурную политику, а также – её значение как инструмента поддержки суверенитета и ценностного единства общества. Отдельное внимание уделено феномену цифрового следа и его роли в укреплении доверия и формирования образа гражданина в цифровом пространстве. Рассматриваются риски, связанные с приватностью и контролем за персональными данными, которые могут снижать доверие к цифровому государству. В работе делается вывод о том, что развитие цифрового государства требует баланса между прозрачностью, контролем и обеспечением приватности, а также – адаптации государственной культурной политики к условиям цифровой среды для формирования единого ценностного поля.
Цифровое государство, государственная культурная политика, цифровизация, цифровое доверие, цифровой след, ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/144163498
IDR: 144163498 | УДК: 323.21 | DOI: 10.2441/2310-1679-2025-257-6-16
Текст научной статьи Культурная политика цифрового государства
Формирование информационного общества на современном этапе развития стало одним из приоритетов современного государства. Во многом именно единый цифровой контур, являющийся цифровой сетевой средой, включающей все государственные и многие негосударственные системы, обеспечивает формирование комфортных условий существования во всех сферах жизни. Скорость и удобство государственных услуг для граждан безусловно определяют привлекательность цифрового государства и определяют развитие данного вектора.
В первую очередь, чтобы сформировать подобную систему, необходимо разработать и провести ряд мероприятий по цифровой трансформации государственного управления для обеспечения нового уровня предоставления государственных услуг. Реформа подобного масштаба требует больших финансовых ресурсов и может проводиться с двумя возможными целями: упрощение государственного управления (цифра остается в статусе инструмента) и создание цифрового государства (цифра становится средой) [11, с. 42]. Выявление ценностных установок и моральных императивов акторов трансформации необходимо для того, чтобы определить границы цифрового государства, его функциональные возможности. Поскольку цифровизация процессов государственного управления находится в динамике, а акторы происходящих трансформаций не всегда очевидны, представляется верным исследовать только те тенденции, которые можно условно назвать устойчивыми. В связи с этим в рамках данной исследовательской работы мы остановились на анализе государственной политики в цифровом пространстве.
Для достижения указанной исследовательской цели необходимо решить следующие задачи:
– описать границы цифрового государства;
– выявить функциональные возможности цифрового государства;
– рассмотреть цифровизацию государственной культурной политики в качестве метода для формирования цифрового государства и поддержания его ценностных установок;
– оценить позитивные и негативные аспекты цифровизации государственной культурной политики.
Решение этих задач видится нам через призму действующего законодательства. Трансформация правовых, экономических, социальных, государственных институтов актуализировала изменение правовой системы, позволяющей государству полноценно функционировать и в условиях цифрового пространства в качестве цифрового государства.
Само по себе понятие «цифровое государство» окончательно еще не вошло в научный дискурс, однако достаточно часто используется в общественном дискурсе как нечто само собой разумеющееся, априори очевидное всем.
Понятие «цифровое государство» остается дискуссионным, и даже в правовой литературе все еще нет единого мнения относительно отражающих его феномена и использования функционала других сфер. Э. А. Золаев считает, что «цифровое государство – это информационно-технологическая организация политико-правового взаимодействия граждан и органов публичной власти» [4, с. 1587]. Так, государственная платформа, оснащенная элементами искусственного интеллекта, взаимодействует не только с гражданами, но и общественными, коммерческими организациями и органами публичной власти, а также является пространством для осуществления взаимодействия для всех участников между собой. Основная задача подобной коммуникационной системы заключается в упрощении документооборота между органами государственной власти, органами местного самоуправления и учреждениями, предоставляющими государственные и муниципальные услуги.
Некоторые исследователи не дают определения цифровому государству, но предпринимают попытку описать признаки цифрового государства. И. В. Шахновская выявляет размытость государственных (территориальных) границ, обеспечение информационного суверенитета (как в техническом, так и в правовом аспекте), наличие и действенность цифрового механизма защиты прав человека, вовлечение права в процесс информатизации и др. [14, с. 135]. Во многом данные признаки соотносятся со стремлением повысить эффективность государственного сектора, его результативность и открытость для граждан, поскольку требуется нивелировать накопившееся за период COVID недоверие к органам государственной власти для упрощения коммуникации между гражданами и государственным аппаратом.
Среди исследователей феномена цифрового государства наблюдается разделение на более узкое понимание цифрового государства – как политической организации, осуществляющей публичную власть не только в цифровом пространстве, и более широкое понимание – как непосредственно организованное в цифровой среде информационное общество. Представители второго подхода в качестве главного принципа объединения выделяют схожесть социально-экономических интересов, несмотря на различие политического положения. Данная система подразумевает «прозрачные» отношения между членами коммуникации и высокий уровень контроля как со стороны органа власти, к которому обращена коммуникация, так и со стороны граждан, чаще всего инициирующими коммуникацию.
Документом, представляющим противоположную точку зрения на цифровое государство, предстает Глобальный цифровой договор, предложенный ООН. Его главными тезисами являются ликвидация всех цифровых барьеров [2, с. 1] и установление значимости негосударственных акторов в управлении Интернетом [там же, с. 8–9], что ставит под сомнение реализацию непосредственно цифрового государства. Отсутствие поддержки в России данной инициативы ООН отражает стремление к реализации цифровой версии государственной, в том числе культурной политики, а значит и сохранению суверенитета через государственный контроль над деятельностью граждан в цифровом пространстве.
Сохранение суверенных черт государства становится важной частью формирования цифрового государства и отражается в «прозрачном» виде коммуникации. Поскольку цифровое государство все еще остается в действующих территориальных границах, несмотря на «размытость границы», на которую указывает И. В. Шахновская, территориальные ограничения существуют и необходимы для сохранения целостности государственной границы. Как следствие, внутри цифрового государства управление ведется действующей на территории политической властью, которая во многом определяет вектор приоритетности информационных ресурсов и устанавливает нормы и правила существования в информационном пространстве.
Отчасти это отражается на доступности и разнообразии информации. Долгосрочная программа развития российского сектора сети Интернет предполагает импортозамещение, а также ограждение граждан России от идеологически деструктивной и не отвечающей российским ценностям информации [10]. К частным примерам можно отнести проект «Знание. Вики» – аналог Википедии, которую сейчас активно развивает Российское общество «Знание», вовлекая преподавателей и студентов в написание статей.
Главенство государственного языка и поддержание правовых норм также оказываются важной составляющей цифрового государства, так как являются, с одной стороны, частью культурного достояния и основным способом коммуникации, а с другой – способом формирования идентичности граждан, основанной на осмыслении себя и окружающего мира в рамках культурной парадигмы, в том числе заложенной в языке как части суверенитета. Даже на цифровом уровне появляется необходимость регулирования практической жизни общества на основании ценностных ориентаций, социокультурных норм индивидуального и коллективного, содержащегося в законодательных актах.
Следует подчеркнуть важность фактора доверия к власти, определяющего коммуникацию между всеми ее членами и выступающего в качестве залога уверенности в совпадении интересов коммуникантов. Поскольку часть коммуникации государства с гражданами переходит в цифровое пространство, возникает необходимость в новой форме доверия – цифровом доверии, то есть свободной и добровольной передаче информации в цифровом пространстве при взаимодействии с органами власти.
По тем тенденциям, которые наблюдаются в сфере цифровизации государственного управления, можно судить о предпринимаемых попытках перенести все сферы жизни в цифровое пространство. Для молодого поколения цифровизация государственных услуг способствует повышению уровня доверия: развитие цифровых технологий обуславливает и упрощение использования платформ со сторон каждого коммуницирующего, что, в свою очередь, влияет на систему управления. Для поколения, привыкшего к другому формату осуществления взаимодействия с государством, уровень доверия может оставаться на обычном уровне или даже падать.
Перевод деятельности государства в цифровой формат вызывает формирование цифрового (электронного) правительства, под которым следует понимать «важную модернизацию работы органов публичной власти государства, связанную с внедрением и использованием новых цифровых технологий в работе органов государства и местного самоуправления, их взаимодействием при помощи цифровых технологий, а также с установлением постоянной обратной цифровой связи с гражданами и институтами гражданского общества, в целях их вовлечения в обсуждение, а в случаях, установленных законодательством, и в решение важных государственных и муниципальных проблем» [13, с. 565].
Цифровое правительство структурно-онтологически входит в цифровое государство, является необходимой его частью, обеспечивающим транспарентность государственного управления и деятельности администраций. Во многом именно деятельность цифрового правительства как актора, выступающего от лица института цифрового государства, влияет на уровень доверия населения. Цифровое правительство отвечает за достоверность информации, создает возможности для проявления гражданской инициативы («Активный гражданин», «Мой город» и др.).
Вовлечение населения в жизнь города, в том числе в развитие культурного ландшафта города, напрямую зависит от соотношения ценностей, которые регулируют коммуникацию: при совпадении ценностных ориентиров повышается качество коммуникации в связи с выстраиванием «прозрачности» отношений за счет единых представлений о мире. Платформы и сайты цифрового государства являются именно такой площадкой, позволяющей декларировать совпадение по ценностям или транслировать определенные ценности, чтобы они были присвоены населением. Ценностное совпадение правительства и населения, также как и эффект узнавания своих ценностей в цифровом пространстве, влияет на коэффициент доверия населения в положительную сторону. Использование богатого арсенала средств коммуникации в цифровом пространстве позволяет цифровому правительству воздействовать как на рациональном (сознательном уровне), так и на эмоциональном – на мнение населения [3, с. 62], что впоследствии создает предпосылки для формирования общих интересов.
В то же время сбор и хранение данных, необходимых для осуществления прозрачности, вызывают тревогу у большей части населения [9, с. 56–57]. Ощущение слежки и использования персональных данных в нежелательных гражданам целях уменьшают коэффициент доверия, что, в свою очередь, является причиной сопротивления к тотальной цифровизации и усложнению данного процесса для государства. В данном случае речь идет о разновозрастных гражданах, которые или не стремятся делиться данными постоянно, в том числе для создания своего публичного имиджа за счет цифрового пространства, или стараются делать свои социальные сети приватными, доступными исключительно для узкого круга лиц. Тем не менее даже подобные виды приватности условны, поскольку при сборе информации в цифровом пространстве государство имеет больше возможностей, что связано, в первую очередь, с системами безопасности: государство не может одновременно в полной мере гарантировать и безопасность, и приватность [7, с. 86].
В некоторых случаях желание граждан сохранить независимость от государства представляется почти комичным. Так, подавляющее число граждан охотно использует эти данные для регистрации на сайтах [5], однако часть все еще предпочитает не «привязывать» подобные страницы друг к другу, поскольку на Госуслугах хранятся важные личные данные. Отчасти подобное сохранение независимости от государственной системы считается небезопасным, тем не менее граждане не стремятся оставлять свои личные данные и пользуются не связанными со своим именем и настоящими данными страниц как гарантом личной безопасности.
Таким образом, процесс цифровизации и становления цифрового государства характеризуется противоречивыми тенденциями: прозрачность государства для граждан повышает уровень доверия, однако необходимость предоставить свои персональные данные для обеспечения прозрачности – напротив, вызывает страх цифрового правительства и цифрового государства.
Государственная культурная политика, несмотря на активные процессы цифровизации, регламентируется законом о государственной культурной политике – базовым документом для регуляции культурных процессов и инициатив в нашей стране. В Указе № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» указано, что любые процессы, происходящие в России, должны быть ценностно обусловлены. Под культурными процессами подразумевается не только культурное развитие и функционирование государственных и муниципальных программ, но и формирование идентификационной специфики граждан, влияющих на коэффициент доверия к власти как в реальности, так и в цифровом пространстве.
Основными органами, планирующими и принимающими решения по вопросам направленности культурной политики, являются органы государственной власти, а основными органами, реализующими культурную политику государства, являются культурные институты, аккумулирующие опыт ценностных ориентаций, согласованных на государственном уровне. Во многом это позволяет через упрощенную коммуникацию популяризировать культуру, а также выстраивать формы организованного досуга, впоследствии развивающие интерес к культуре у граждан нашей страны, что поднимает статус научно-исследовательских и учебных заведений культуры и искусства. Вследствие этого возникает потребность в выстраивании и поддержке международного имиджа государства [6, с. 280].
Процессы реализации культурной политики направлены, в первую очередь, на построение в быстро меняющемся мире стабильных представлений о взаимосвязях общечеловеческих ценностей с глубинным содержанием национальной культуры и парадигмой будущего человечества.
Реализация культурной политики в цифровом государстве неизбежно влечет за собой феномен цифрового следа как феномена цифровой культуры. С одной стороны, цифровой след представляет собой уникальный набор действий в цифровом пространстве [1, с. 10], по которому возможно составлять мнение о конкретном гражданине, его интересах и ценностях; с другой – для составления статистических данных, а также сбора информации о работе порталов и сайтов, на которых непосредственно функционирует цифровое государство, необходимо многократное повторение одного и того же действия. В таком случае складывается ситуация, при которой формирующемуся цифровому государству необходимо увеличивать количество цифрового следа, в том числе за счет системы бонусов для граждан (призы за онлайн голосование, система баллов за участие в жизни города и другие).
Поощрение цифрового следа влияет на культуру доверия, что отражает, например, высокий процент онлайн-проголосовавших на последних выборах 2024 года: по данным Центральной избирательной комиссии 90% граждан выбрали электронный вариант голосования [8]. Во многом это показывает, насколько данная система отвечает ценностным установкам граждан, позволяет им, с одной стороны, оставаться в привычном ритме жизни, а с другой, – проявлять активную гражданскую позицию и участвовать в жизни государства.
Отчасти это отражает функционирование государственной культурной политики в цифровом пространстве. Публикуемые гражданами материалы и используемые ими платформы, отвечающие ценностным требованиям, заложенным в «Основах…», являются непосредственным продолжением актуализации как закона о культурной политике, так и необходимости в цифровом следе. Во многом именно оставляемый пользователями сети след влияет на формирование векторов государственной культурной политики и следующую за ней информационную доступность.
В связи с переводом государственной культурной политики в «цифру» важно, чтобы ценностное объединение вокруг государства отвечало заложенным целям, то есть решало проблематику передачи культурноисторического нарратива и формировало российское общество в рамках установленных законом ценностей. Цифровое государство также оставляет цифровой след – цифровизация российской культуры позволяет использовать цифровой след как инструмент мягкой силы на внешнем, глобальном цифровом пространстве. Стали доступнее произведения искусства, образовательный и просветительский контент. Например, для просмотра балета не обязательно покупать билет непосредственно в театр, поскольку современные цифровые технологии позволили оцифровать и отреставрировать старые записи спектаклей для показа их в кинотеатрах или трансляции на онлайн платформах. Аналогичная система сформировалась для показа старого кино, не только советского, но и зарубежного, отвечающего целям и задачам государственной культурной политики.
Онлайн-трансляции важных государственных или социокультурных мероприятий позволили расширить круг зрителей, предоставили возможность большему количеству граждан быть вовлеченными в культурную жизнь государства. К этому же относятся многочисленные публичные страницы в социальных сетях у представителей власти. Основной целью является не только передача информации, но и выстраивание прямой коммуникации с гражданами. Данные тенденции являются модернизацией органов публичной власти, позволяющей выстраивать отношения на уровне ценностей, повышать уровень доверия за счет использования знакомых пользователям инструментов, слов и символических конструкций. Это позволяет в том числе оправдывать деятельность государственных органов и транслировать официальную позицию государства в цифровое пространство через неформальную коммуникацию.
С другой стороны, несмотря на обоснованные ограничения информационного разнообразия, в том числе за счет блокировки или торможения трафика некоторых социальных сетей на территории нашей страны, по данным опросов, россияне продолжают использовать данные ресурсы, публиковать там материалы и взаимодействовать с другими пользователями [12]. Это может указывать или на техническую и технологическую неготовность формирующегося цифрового государства к подобным вызовам, и в данном случае цифровые барьеры, установленные непосредственно государством, не работают и часто не являются препятствием для расширения информационного поля граждан, или – на лояльность государства к внешним информационным пространствам, признание права граждан на свободу в выборе форм и источников получения информации.
В заключение хотелось бы отметить, что на данный момент развитие российского цифрового государства за счет ускорения технологического развития идет достаточно быстро и во многих сферах жизни эффективно. Цифровое государство, несмотря на несформированность границ, учитывает все действующие законодательные акты, следит за исполнением закона в социальных сетях и на крупных площадках, транслирующих тексты культуры; стремится сохранять целостность государственной границы и развивать доверительные отношения с гражданами для создания единого ценностного поля, в котором не только государство защищает интересы граждан, но и граждане способны солидаризироваться с позицией государства в целях защиты суверенитета.
Государственная культурная политика выступает регулятором отношений между государством и гражданами, а ее перевод в «цифру» становится методом для поддержания ценностных установок, принятых на территории России. В данном случае ее функционирование подтверждает ограничение доступа к идеологически деструктивной и не отвечающей российским ценностям информации.
Выстраивание доверительных отношений государства и граждан, основанных на единых ценностных установках, позволяет цифровому государству эффективнее развивать свои функциональные возможности, поскольку внедрять услуги и упрощать коммуникацию с органами государственной власти, представленными на определенных цифровых порталах, становится легче. Граждане оставляют больше цифровых следов, а значит – предоставляют больше информации, на основании которой возможно сделать систему проще и эффективнее.
Ко всему прочему важно отметить, что представительство органов публичной власти непосредственно в социальных сетях становится частью формирования культуры доверия и формирования имиджа российской культуры в актуальных для граждан пространствах социальных сетей. Подобная близкая коммуникация положительно влияет на восприятие государственного управления за счет условной «личной коммуникации» с представителем власти.
Тем не менее цифровое государство находится только на начальной стадии своего развития, поскольку, несмотря на повышение качества коммуникации на государственных площадках и в социальных сетях, размытость государственной границы в цифровом пространстве все еще сильна. Это влияет, в первую очередь, на доступность информации, так как граждане нашей страны продолжают использовать закрытые к прямому доступу социальные сети и платформы, что показывает несовпадение представлений о ценностных установках и взглядах на размещенные материалы. Это может не отражаться на доверии к государству, но представляет собой обход государственной блокировки.
Также стоит отметить стремление граждан к ощущению приватности и безопасности при распространении материалов о себе. Если часть пользователей охотно оставляет цифровые следы, регулярно публикуя свои фотографии, тексты или размышления, то другие стремятся закрывать личные страницы от посторонних или не публиковать материалы, которые могут как-либо давать другим людям информацию о пользователе страницы.
Создание цифрового государства, как в широком, так и в узком смысле, является важным и актуальным направлением, которое необходимо развивать не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов федерации и муниципалитетов.
Даже при условии высокого уровня доверия к сервисам цифрового правительства в России на сегодняшний день, остаются неясными вопросы разработки показателей цифрового доверия и последующих шагов по его улучшению. С каждый годом использование цифровых порталов государства становится все более эффективным за счет улучшения системы. Укрепление ценностей путем реализации задач государственной культурной политики требует учитывания сложностей функционирования в цифровом пространстве при анализе коммуникации в рамках формирующегося цифрового государства. С учетом активного развития общественных отношений в рамках институтов цифрового государства важно адаптироваться и определить свой собственный вектор развития, который будет наиболее подходящим для нашей страны.