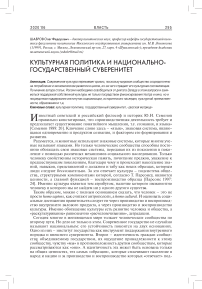Культурная политика и национально-государственный суверенитет
Автор: Шабров Олег Федорович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Конференции
Статья в выпуске: 6, 2020 года.
Бесплатный доступ
Современная культура переживает кризис, поскольку мировое сообщество сосредоточено на потреблении и экономическом развитии в целом, из-за чего страдает его культурная составляющая. По мнению автора статьи, России необходимо освободиться от диктата Запада в этом вопросе и заниматься поддержкой собственной культуры не только посредством финансирования театра и кино, но и посредством поддержания институтов социализации, исторического наследия, культурной преемственности, образования и т.д.
Культурная политика, государственный суверенитет, «русская матрица»
Короткий адрес: https://sciup.org/170171267
IDR: 170171267 | DOI: 10.31171/vlast.v28i6.7800
Текст научной статьи Культурная политика и национально-государственный суверенитет
И звестный советский и российский философ и историк Ю.И. Семенов правильно констатировал, что «производственная деятельность требует и предполагает существование понятийного мышления, т.е. сознания, и языка» [Семенов 1989: 20]. Ключевое слово здесь – «язык», знаковая система, являющаяся одновременно и продуктом сознания, и фактором его формирования и развития.
Разумеется, и животные используют знаковые системы, которые многие ученые называют языками. Но только человеческие сообщества способны постоянно обогащать свои знаковые системы, передавая их из поколения в поколение с помощью различных механизмов социального наследования. Только человеку свойственны историческая память, почитание предков, уважение к предшествующим поколениям, благодаря чему и происходит накопление знаний, навыков, представлений о должном и табу как неких образцах, которым люди следуют бессознательно. За это отвечает культура – подсистема общества, структурными компонентами которой, согласно Т. Парсонсу, являются ценности, а главной функцией – воспроизводство образца [Парсонс 1997: 24]. Именно культура является тем атрибутом, наличие которого имманентно человеку и которого мы не найдем ни у одного другого существа.
Таким образом, можно с полным основанием сказать, что человек – это не просто homo sapiens , как считают антропологи, а homo cultural . И оценивать социальные достижения правительств следует не через производство и воспроизводство внутреннего валового продукта, а через производство и воспроизводство культуры. Именно обогащение культуры есть развитие человека и общества, а «раскультуривание» равнозначно «расчеловечиванию», деградации.
Сегодня многое в меняющемся мире толкает человеческие сообщества по второму пути. Но дело не только в этом. Современное государство не случайно называют национальным: его устойчивость покоится на двух основаниях. Одно из них – институт государства как инструмент поддержания внутреннего порядка и внешнего суверенитета. Второе – идентичность граждан сообществу, объединяемому государством, их ощущение принадлежности к этому сообществу, чувству «мы» в противоположность другим сообществам, которые рассматриваются как «они». А идентичность эта может быть основана только на общих ценностях, тех самых «образцов», которые сплачивают население в народ и нацию и за производство и воспроизводство которых «отвечает» под- система культуры. Ослабление чувства национально-государственной идентичности равнозначно атомизации общества, превращению народа в население и утрате устойчивости государством, что делает его менее способным обеспечивать целостность и суверенитет.
Вот почему так важен и актуален поставленный на обсуждение вопрос: какой должна быть культурная политика современного государства, чтобы обеспечить развитие человека и общества и не допустить ослабления государства?
Как-то незаметно под аккомпанемент критики Марксова «экономического детерминизма» либеральный западный мир навязал человечеству, и России в частности, невиданный прежде тотальный экономический диктат по отношению не только к государственной «надстройке», но и ко всем сферам общества и частной жизни человека. Критерием и общественного развития, и личного статуса стали экономические показатели, выраженные к тому же не в натуральных величинах и не в технологическом уровне, а в валовом внутреннем продукте и доходе на душу населения. То есть, в деньгах.
Однако человек не «есть то, что он ест», как навязчиво уверяет нас современная реклама. И общественные системы покоятся не только на экономике и аппарате принуждения. История дает немало примеров крушения империй в моменты их экономического и военного могущества. Причиной становилось разрушение общественного единства, покоящегося на общности социальных ценностей и основанном на них чувстве национальной идентичности, сопричастности граждан к делам своей страны, объединяющем их в единое политическое сообщество. Ценности эти, в свою очередь, содержат два принципиально разных компонента.
Это, прежде всего, культура, функциональное предназначение которой, как правильно писал Т. Парсонс, – «воспроизводство образца», формирование в процессе социального наследования совокупности представлений о должном и запретном, управляющих поведением человека на уровне подсознания. Эта совокупность образцов образует так называемую культурную матрицу, на основе которой формируется народ, нация. «Общность чувств, идей, верований и интересов, – писал французский социальный психолог Г. Лебон еще в конце XIX столетия, – созданная медленными наследственными накоплениями, придает… ему [народу] в то же время громадную силу… С того времени, как она исчезает, народы распадаются» [Лебон 2016: 19]. Именно культура (Г. Лебон называл это «духом народа») является цементирующим основанием современного национального государства.
Вторая же совокупность ценностей формирует образ желаемого будущего, проект, именуемый идеологией. В любой общественной системе существует, наряду с другими, господствующая идеология, носителем которой является государство. Совокупность содержащихся в ней идей и ценностей зафиксирована, опредмечена в нормах юридического права, в то время как культура является носителем права обычного, совокупностью неформализованных норм и ценностей, регулирующих отношения людей на основе обычая, традиции.
Сочетание идеологии и культуры во многом определяет характер и перспективы общественных систем. Не всякий проект, даже освященный государством и закрепленный в юридическом праве, как бы он ни был привлекателен, может послужить долговременной основой сплочения общества. Успех имеет лишь государственная конструкция, соответствующая «культурной матрице», возможно, дополняющая и усложняющая ее, но не вступающая с ней в принципиальное противоречие. В противоположном случае возможны два варианта: либо идеологические ценности, в т.ч. закрепленные юридическими нормами, трансформируются, порой до неузнаваемости, подстраиваясь под культурную матрицу, либо они ее разрушают. Последний вариант означает утрату этнического самосознания, идентичности, атомизацию общества, ибо идеологические ценности не могут заместить культурные образцы, формируемые опытом поколений.
Россия, исторически сложившаяся как совокупность множества культур, может существовать только благодаря присущей культуре русского полиэтноса общинности и в условиях наличия вдохновляющего надэтнического проекта. Таковыми были проекты, выраженные формулами «Москва – третий Рим», «Православие. Самодержавие. Народность», идеи коммунизма. Дискредитация этих проектов приводила к «смутным временам» и, в конечном счете, заканчивалась развалом страны.
Современный мир бросает вызов всем культурам. К числу объективных факторов «раскультуривания» можно отнести сокращение продолжительности технологических циклов, виртуализацию социальных отношений, урбанизацию, массовую миграцию, трансграничную коммуникацию и пр. К этому нельзя не добавить целенаправленную деятельность конкурирующих государств, реализующих стратегию soft power , смысл которой можно выразить формулой: «понуждение других народов хотеть результатов, которые вы желаете получить».
По сути дела, речь идет о невидимом, латентном нарушении государственного суверенитета. Центр тяжести в межгосударственном противоборстве давно уже перенесен из силовой сферы в сферу культуры. Сегодня «универсальные» ценности способны нанести ущерб национально-государственному суверенитету и разрушить общественные системы без применения оружия. «Модернизаторы – борцы с “традиционалистской ментальностью”, – писал А.С. Панарин, – опустошающие кладовые культурной памяти, ослабляют трансцендентальные структуры, ограждающие социум от стихийного будущего» [Панарин 2000: 48]. Опыт СССР, процессы на современной Украине – наглядное тому подтверждение.
«Русская матрица» несет на себе отпечаток природных условий и исторического пути формирования, что не могло не отразиться в специфике ценностных ориентаций наших сограждан, их отношения к себе и к окружающему миру. Эти особенности хорошо описаны в трудах И.А. Ильина, Н.А. Бердяева и других русских мыслителей, нашли отражение в произведениях русских писателей. Известное тютчевское «умом Россию не понять» и бисмарковское «никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью» отражают, например, общеизвестную иррациональность, созерцательность русского ума. Эта черта существенным образом отличает русского от рационального западного человека.
Различие проявляется и в смысловом наполнении даже ключевых «универсальных» ценностей, таких как свобода и права человека. Для рационального западного человека его свобода есть независимость от произвольных желаний другого в пределах, очерченных свободой других. Это свобода для себя. Русское же понимание свободы, напротив, выражено в возможности служения общему делу.
Эта свобода вовсе не предполагает ограничений, связанных со свободой (в западном понимании) ни себя, ни других. На Западе это трактуется как признак якобы свойственного русской культуре рабства. Но рабство имеет совершенно иную природу – оно предполагает прислуживание, служение по принуждению либо из холопства.
Права же человека в их западном толковании не могут быть восприняты русской культурой аутентично в силу свойственного ей правового нигилизма, ориентации больше на обычное, нежели на юридическое право. Это свойство «русской матрицы» глубоко проанализировано, в частности, И.А. Ильиным. Он же, по сути дела, предупреждает и о рисках, связанных с попытками заменить в практике государственного управления обычное право на юридическое в качестве регулятора социальных отношений, если последнее не отражает глубинных ценностей русской культуры, не наполняет его тем, что этот мыслитель называет любовью. «Цивилизующие суррогаты любви (долг, дисциплина, формальная лояльность, гипноз внешней законопослушности) – сами по себе ему мало свойственны. Без любви – он или лениво прозябает, или склоняется ко вседозволенности. Ни во что не веруя, русский человек становится пустым существом, без идеала и без цели» [Ильин 1992]. Для западной цивилизации, ориентированной на юридическое право, «раскультуривание» не так опасно, как для России, ориентированной на право обычное. Здесь размывание культурных «образцов» вообще лишает общество норм, регулирующих отношения между людьми.
Проблема западной культурной экспансии усугубляется еще и тем, что сама западная культура, образцы которой продвигаются в сознание российского общества, пребывает в состоянии деградации, которая становится все более очевидной. Предназначенные поначалу на экспорт «универсальные» ценности прав и свобод человека, доведенные до абсурда, оказались усвоенными, прежде всего, самой западной цивилизацией, склонной отдавать приоритет юридическому праву. И сегодня мы являемся свидетелями того, как права общества становятся заложниками прав этнических, сексуальных и прочих меньшинств, а идеи «врожденных» прав человека и гендерного равенства, встроенные в юридическое право, становятся основанием для вторжения западных государств в интимные отношения внутри семьи.
Западный мир не нашел пока выхода и из возникшего в XXI столетии и с каждым годом обостряющегося противоречия между господствующей в нем моделью общества потребления и достигнутым человечеством пределом экономического роста, связанным со ставшей непосильной для природы антропогенной нагрузкой1 [Медоуз Дон., Рандерс, Медоуз Ден. 2007].
Следование доминирующей на Западе модели общества потребления материальных ценностей с неизбежностью ведет к глобальной катастрофе. Вряд ли существует выход из сложившейся ситуации, если на смену этой модели не придет модель общества потребления ценностей духовных. Но тогда конкуренция между общественными системами неизбежно смещается в сторону культуры, и преимущества в ней получат цивилизации, в которых статус человека определяется богатством его внутреннего мира, а не размером банковского счета. Сфера культуры становится определяющей в дальнейшем развитии общественных систем.
В этих условиях неизмеримо возрастает роль государственной политики в сфере культуры, которая не должна сводиться к финансовой поддержке театров и музеев. Необходимо укреплять существующие и создавать новые институты социализации, укреплять связь поколений, формировать уважительное отношение к истории собственного народа и его традициям. Сегодняшняя политика российского государства не только не держит должным образом проблему культурного наследования в поле зрения, но и усугубляет ее, ослабив функционирование образования в качестве института социализации, форми- руя негативное отношение к отдельным историческим периодам прошлого страны, не уделяя должного внимания проблеме русского языка, финансируя постановку спектаклей и фильмов, содержание которых несовместимо с российским представлением о нравственности. Если мы не будем относиться к проблеме «русской матрицы» как к политической проблеме первостепенной важности, мы рискуем повторить судьбу Советского Союза.
Статья публикуется при поддержке Школы молодого этнополитолога в Республике Башкортостан (грант Фонда президентских грантов 19-2-022447).
Список литературы Культурная политика и национально-государственный суверенитет
- Ильин И.А. 1992. О русской идее. - Наши задачи: историческая судьба и будущее России: статьи 1948-1954 гг. В 2 т. М.: МП "Рарог". Т. 1
- Лебон Г. 2016. Психология народов и масс (пер. с франц.). М.: Академический проект. 239 с
- Медоуз Дон., Рандерс Й., Медоуз Ден. 2007. Пределы роста. 30 лет спустя (пер. с англ. Е.С. Оганесян). М.: ИКЦ "Академкнига". 342 с
- Панарин А.С. 2000. Глобальное политическое прогнозирование. М.: Алгоритм. 350 с
- Парсонс Т. 1997. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс. 270 с
- Семенов Ю.И. 1989. На заре человеческой истории. М.: Мысль. 319 с