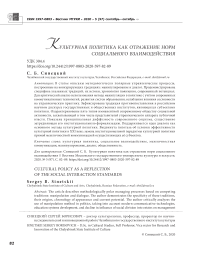Культурная политика как отражение норм социального взаимодействия
Автор: Синецкий Сергей Борисович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Современные культурные практики и процессы
Статья в выпуске: 5 (97), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье описаны методологически полярные управленческие процессы, построенные на конкурирующих традициях: манипулирование и диалог. Продемонстрирована специфика указанных традиций, их истоки, хронология появления, современный потенциал. Дан критический анализ использования метода манипуляции в политике с учётом современных коммуникативных технологий, развития систем образования, ослабления влияния сословности на управленческую практику. Зафиксирована традиция противопоставления в российском научном дискурсе государственных и общественных институтов, являющихся субъектами политики. Охарактеризованы пять типов имманентной современному обществу социальной активности, захватывающей в том числе представителей управленческого аппарата публичной власти. Показана принципиальная диффузность современного социума, существенно затрудняющая его институциональную формализацию. Поддерживается идея диалога как основного метода культурной политики. Выдвинута гипотеза об условии эффективности культурной политики в XXI веке: замена институциональной парадигмы культурной политики прямой межличностной коммуникацией осуществляющих её субъектов.
Культурная политика, социальное взаимодействие, межличностная коммуникация, манипулирование, диалог, общественность
Короткий адрес: https://sciup.org/144161397
IDR: 144161397 | УДК: 304.4 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-597-82-89
Текст научной статьи Культурная политика как отражение норм социального взаимодействия
Принято считать, что социальные взаимодействия (и коммуникации в целом) в значительной степени формируются под воздействием проводимой культурной политики. Это, безусловно, так. Однако и сама культурная политика является производной от сложившихся социальных взаимодействий. В данной статье будут рассмотрены два аспекта социальных взаимодействий, оказывающих влияние на культурную политику.
Первый аспект . Актуальность заявленной темы определяется традиционным противостоянием двух управленческих традиций, имеющих противоположные методологические основания. В основе первой лежит методология манипулирования, скрытого воздействия на социальные объекты со стороны субъекта управления. Вторая основана на методологии полисубъектности: со-участия и открытого диалога максимального количества заинтересованных субъектов, репрезентирующих интересы различных социальных групп. В настоящей статье мы воздержимся от нравственных оценок данных методологий, остановившись исключительно на их эффективности и уместности использования в конкретных исторических условиях.
Очевидно, что традиция манипулирования имеет существенно более длинную историю. К настоящему времени теория манипуляции хорошо разработана. Её основоположниками принято считать Никколо Макиавелли (1469–1527) и Игнатия де Лойолу (1491–1556), хотя сам термин в его современном управленческом значении стал использоваться примерно в середине XX века [2, с. 4].
Изначально данная традиция была объективирована такими условиями жизни, как:
-
• неразвитые, медленные коммуникации;
-
• предписанная сословность, формально закреплённое неравенство социальных групп в отношении участия в управлении;
-
• институциональная образовательная сегрегация, обеспечивающая элитам существенное преимущество в управлении и администрировании.
По сути, манипулирование являлось неизбежным в ситуации неинституализи-рованности диалога элит и социума, с одной стороны, и невозможности постоянного использования методов принуждения в отношении социума – с другой. При этом в современном профессиональном научном дискурсе данный метод влияния устойчиво ассоциируется с неравным положением коммуницирующих сторон. Так, Ю. В. Пую говорит о манипуляции как о «специфической форме социальной репрессии, актуализирующейся в пространстве организационно-управленческой деятельности в виде многообразия коммуникативных технико-технологических практик …» [9, с. 16]. О. В. Ланге считает, что «манипулирование … обусловлено асимметричным характером авторитетно-властных отношений ... Политическое манипулирование … является результатом эволюции таких явлений, как господство, эксплуатация, насилие» [3, с. 11]. Л. Г. Навасаратян, описывая речевые средства и приёмы манипуляции, подтверждает её генетическую парадигматику, основанную на дихотомии «свой – чужой» [6, с. 6]. А. А. Мачина обращает внимание на «необходимость проведения профилактических мероприятий по предотвращению манипулятивного порабощения человеческого сознания» [4, с. 7]. Основыва-
-
• в-третьих, укрепление (воспроизводство) при использовании данного метода социальной конфронтации, основанной на паттерне превосходства (образовательного, знаниевого, интеллектуального и других) субъекта влияния над объектом;
-
• в-четвёртых, игнорирование разнообразных потенциалов объекта влияния (как правило, это существенная часть общества) при формировании образов культуры будущего, целей культурной политики и способов её реализации;
-
• в-пятых, ресурсоёмкость метода, определяемую необходимостью постоянного усиления манипулятивного влияния в силу привыкания и снижения чувствительности объекта к ранее использованным средствам воздействия.
Что касается объективных социокультурных оснований манипуляции, перечисленных выше, то можно констатировать их отсутствие в развитых обществах XXI века.
-
1. Современные коммуникации на-
- ясь на анализе имманентных манипуляции
столько развиты по своим скоростным и паттернах неравенства сторон взаимоотношений, О. Б. Негодаева относит манипулятивные отношения к факторам риска в российском обществе [7].
Мы намеренно обратились к современным российским исследованиям диссертационного уровня, ибо сделанные в них выводы основаны на обстоятельном анализе идей и мнений отечественных и зарубежных авторов. На основе проведённого краткого анализа манипуляции как метода культурной политики можно констатировать:
-
• во-первых, её однонаправленный целевой вектор, субъектно-объектную парадигматику отношений;
-
• во-вторых, скрытность воздействия субъекта на объект;
-
2. Сословность если и сохранилась, то в декоративной форме, как формальная дань традиции, национальный колорит. Ни-
- какого влияния на реальную управленческую практику развитых стран сословность не оказывает.
-
3. Образовательная сегрегация практически перестала существовать с ростом количества вузов во всём мире (с появлением образовательных технологий), в результате интернационализации образования и появления онлайн-образования (соответствующая тенденция активно набирает скорость). На основе образовательного и культурного выравнивания современные общества развиваются в парадигме сменяемости элит и общественного диалога.
инструментальным параметрам, что позволяют передавать информацию в любых её формах неограниченному количеству людей одномоментно с возможностью интерактива и разноформатной обратной связи. Это позволяет не только принципиально интенсифицировать управленческую деятельность, но и лишить её какой-либо тайны (скрытность имманентна манипуляции). Критическое большинство замыслов субъектов политики становится известно до их воплощения (открытые обсуждения, «прогнозы», «сливы», «утечки» и т.п.).
Таким образом, манипулирование как норма социального взаимодействия в развитых обществах принципиально смещается в область частных межличностных отношений. Оно фрагментарно сохраняется в государственной и корпоративной управленческой практике как рудимент архаичных эпох.
Ключевыми условиями эффективности культурной политики на современном этапе являются:
-
• выход из конфронтационной управленческой парадигмы «свой – чужой» и переход в парадигму со-участия и открытого диалога, представляющего собой устойчивую связь «между личностным, регионально-этническим и планетарным уровнями взаимодействия» [8, с. 9];
-
• агрегирование разнообразия (идей, проектов, сюжетов, оценок и других): создание системы «участвующего управления» (Н. И. Миронова);
-
• обеспечение процессности (как принципа) культурной политики через создание постоянно действующей (открытой) диалоговой среды, позволяющей многократно корректировать ранее согласованные цели и действия, реагируя на изменение обстоя-
- тельств реализации культурной политики [10, с. 26–27].
Второй аспект. В научном российском дискурсе сформировалась традиция противопоставления (зачастую неявного, латентного) государственных и общественных институтов как субъектов политики (и в целом деятельности). Поисковые системы выдают десятки ссылок на диссертационные исследования, посвящённые «государственному управлению», «государственной политике» или «гражданскому обществу», «общественным организациям». Нам представляется, что подобное институциональное противопоставление применительно к политической установке на «культурную идентичность», «социальную солидарность» и т.п. не имеет консолидирующего потенциала. С одной стороны, присутствует государство как набор формально-бюрократических структур, деятельность которых обеспечивается временным персо-налом1: выборными органами, наёмным аппаратом, ситуативно привлекаемыми экспертами. С другой стороны – общество как конгломерат естественных форм бытования социальности. В этом смысле существующие проблемы диалога «государства» и «общества» могут быть конкретизированы на объективных противоречиях коммуника- ции между «временным» и «постоянным», «искусственным» и «естественным», «неизменным» и «изменчивым», «статичным» и «динамичным» и т.п. Объективным фактором, детерминирующим само наличие проблемы такого диалога, выступает ролевая конвенциональность. Даже временное исполнение предзаданной функции, сопряжённое с определённым ролевым статусом, искажает как представление исполнителя роли о себе, так и воспринимаемый с позиции роли мир. Здесь уместно вспомнить высказывание Макса Вебера о том, что «нет абсолютно “объективного” научного анализа культуры – или, более узко, – “социальных явлений”, независимых от специальных и “односторонних” точек зрения, в соответствии с которыми – явно или молчаливо, сознательно или бессознательно – они отбираются, анализируются и организуются для объяснения целей» [11, с. 72]. Снятие (смягчение) указанного противоречия возможно:
-
• во-первых, при переходе к участвующему управлению, предполагающему, что лидером изменений является гражданский социум, а властвующая элита (государство) преобразуется в антикризисный менеджмент [5, с. 56–57];
-
• во-вторых, через преодоление (в том числе через изменение отражения ситуации в научном дискурсе) субъектами культурной политики, вступающими в диалог, личной статусно-ролевой парадигмы, уравнивание их конвенционального статуса. Иными словами, представитель государства должен быть в первую очередь одним из членов сообщества, а лишь потом – функционером или законодателем.
Если структура государственной машины достаточно чётко регламентирована нормативными документами и публично представлена (например, любой государственный орган управления легко определяется в рамках общей системы управления, имеет подробное описание своей структуры, полномочий, кадров, мероприятий и т.д.), то структура современной общественности, в силу многих объективных причин, зачастую представляется размытой и неопределённой. Однако, вступая в диа- лог, важно понимать, как минимум, организационно-функциональный статус партнёра (ценностные и иные содержательные позиции согласовываются). Взяв за основу критерий «способ организации» можно выделить следующие типы объединения общественности в первой четверти XXI века [10, с. 122–126].
Первый тип – традиционные общественные объединения, организация которых соответствует той, что описана в действующем Федеральном законе «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ. Исходя из данного закона можно предположить, что общественность – это граждане:
-
• вступившие в непосредственный личный контакт;
-
• создавшие некие нормативные документы, регулирующие их взаимоотношения (устав, протоколы собраний и т.д.);
-
• имеющие не просто общие, но зафиксированные в уставе цели;
-
• обязанные провести специальное организационное мероприятие (съезд, конференцию, общее собрание);
-
• сформировавшие руководящие и контрольно-ревизионные органы.
Очевидно, что выполнять перечисленные требования готово существенное меньшинство дееспособного населения, причём не только по объективным причинам (отдалённое проживание, например), но и в силу отсутствия необходимости всего перечисленного для своей деятельности.
Во-первых, группы или сообщества, образующиеся в условиях информационного общества, более не предполагают обязательного непосредственного межличностного контакта её участников. Существуют весьма устойчивые интернет-сообщества, члены которых никогда друг друга не видели в реальной жизни.
Во-вторых, для эффективного существования таких виртуальных групп-сообществ не обязательно создавать уставы, вести протоколы собраний и вообще как-то формализовать свою деятельность. Тем более что вся переписка не просто автоматически сохраняется на серверах, но и идентифицируется по дате, времени, тематике и иным необходимым параметрам.
В-третьих, у участников виртуальных сообществ может не быть общих целей, но могут существовать общие интересы (или проблемы), причём временно.
В-четвёртых, для организации интер-нет-сообщества не нужно никаких специальных мероприятий типа конференций и съездов. Любой желающий может явочным порядком присоединяться к таким сообществам (если они носят открытый характер), заявлять свою позицию, обсуждать общие вопросы, в любой момент устраняться от коммуникации и вновь вступать в неё.
В-пятых, какие-либо руководящие и контрольно-ревизионные органы в виртуальных сообществах, как правило, отсутствуют (за исключением, конечно, модераторов). Такие сообщества принципиально самоорганизуемы.
Но и это ещё не всё. Огромное количество индивидуумов вообще не нуждается в стабильном сообществе для включения в любые интересующие их коммуникации.
Зачастую они создают собственные поводы для общения или вовсе не требуют общения, лишь вбрасывая свои мысли и идеи в Сеть, обогащая её смысловое наполнение.
Второй тип – устойчивые виртуальные сообщества, представленные людьми, систематически вступающими в коммуникацию по интересующим их вопросам (социальные сети, тематические форумы и т.п.), рассматривающими такую коммуникацию как часть образа жизни.
Третий тип – временные виртуальные сообщества, представленные людьми, вступающими в коммуникацию по каким-либо особым поводам (например, обсуждающими какое-либо конкретное решение или действие властей, событие, ситуацию).
Четвёртый тип – временные виртуальные сообщества, состоящие из представителей определённой типологической группы, нуждающихся в совете, помощи или готовых поделиться своим опытом. Группируются вокруг тематических сайтов, групп в социальных сетях и т.п. (сайты для будущих мам, например).
Пятый тип – индивидуальные участники виртуальной коммуникации, не требующие обязательной реакции на своё присутствие в Сети, но периодически вбрасывающие в неё информацию, которая им представляется важной для других и просто для самореализации.
Подавляющее большинство населения, за исключением его пассивной (или лишённой доступа в Интернет) части, распределяется в рамках представленной типологии. Одни и те же люди в разных ситуациях могут попадать в организованности разных типов. Внутри данной типологии находятся в том числе и представители государственных структур, имеющие активную жизненную позицию (многие из депу-
L
татов и чиновников ведут свои блоги, страницы в социальных сетях, пишут в Твиттер и т.д.). Всё это объективно способствует межсекторной и межличностной диалогичности при обращении к общим темам и проблемам.
В качестве общего вывода предлагается гипотеза о том, что эффективная культурная политика в XXI веке возможна при условии дополнения (а в пределе – замены) её институциональной парадигмы прямой межличностной коммуникацией субъ- ектов, претендующих на осуществление культурной политики. Интересы институтов, конкретизированные в интересах ведомств и организаций, программируют бюрократизацию коммуникаций, искусственную конкуренцию, попытки доминирования, социальный диссонанс. Открытый же диалог личностей, вынесенный за рамки приватных отношений, осуществляемый в целерациональном формате, может стать основой выработки современной культурной политики.
Список литературы Культурная политика как отражение норм социального взаимодействия
- Государственный служащий в современной культуре и искусстве : образ, концепты и конструкты : круглый стол в рамках научно-методологического семинара «Культура и культурная политика» (Москва, 16 июня 2020 г.) / Институт государственной службы и управления РАНХиГС. URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=JFNz1wIxY4I&feature=emb_logo
- Князева И. В. Манипуляция общественным сознанием: сущность, исторические формы, трансформация : социально-философский анализ : специальность 09.00.11 «Социальная философия» : автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук / Князева Ирина Васильевна ; Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. Воронеж, 2011. 24 с.
- Ланге О. В. Современные манипулятивные технологии : вопросы теории и методологии : специальность 23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология политической науки» : диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук / Ланге Ольга Владимировна ; Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург, 2015. 173 с.
- Мачина А. А. Манипулирование сознанием посредством информационной системы : специальность 22.00.01 : автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата социологических наук / Мачина Анна Александровна ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Москва, 2003. 22 с.
- Миронова Н. И. Социальная динамика: метаморфозы самоорганизации и управления : [монография]. Челябинск : Челябинский Дом печати, 2005. 171, [1] с. : ил., табл., цв. ил.
- Навасартян Л. Г. Языковые средства и речевые приёмы манипуляции информацией в СМИ : на атериале российских газет : специальность 10.02.01 «Русский язык» : автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук / Навасартян Лариса Гагиковна ; Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. Саратов, 2017. 22 с.
- Негодаева О. Б. Манипуляция сознанием как фактор риска в российском обществе : специальность 09.00.11 «Социальная философия» : автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук / Негодаева Ольга Борисовна ; Донской государственный технический университет. Ростов-на-Дону, 2007. 21 с.
- Попов Е. Н. Онтологические аспекты диалога и диалогических отношений в современном мире : специальность 09.00.11 «Онтология и теория познания» : диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук / Попов Евгений Николаевич ; Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова. Якутск, 2012. 179 с.
- Пую Ю. В. Социально-философские основания антропологии манипулирования : специальность 09.00.11 «Социальная философия» : диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук / Пую Юлия Валерьевна ; Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. Санкт-Петербург, 2010. 372 с.
- Синецкий С. Б. Культурная политика XXI века: теоретико-методологические основания и условия осуществления : специальность 24.00.01 «Теория и история культуры» : диссертация на соискание учёной степени доктора культурологии / Синецкий Сергей Борисович ; Челябинская государственная академия культуры и искусств. Челябинск, 2012. 357 с.
- Weber M. The methodology of the social sciences. Glencoe, Illinois: Free Press; 1949. 216 p.