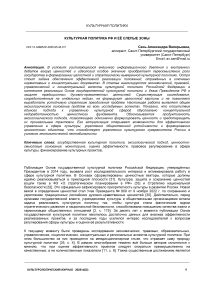Культурная политика РФ и её слепые зоны
Автор: Сень А.В.
Журнал: Культурологический журнал @cr-journal
Рубрика: Культурная политика
Статья в выпуске: 4 (62), 2025 года.
Бесплатный доступ
В условиях усиливающегося внешнего информационного давления и внутренних дебатов вокруг ценностей и идеологий особое значение приобретает переосмысление роли государства в формировании целостной и стратегически выверенной культурной политики. Остро стоит задача обеспечения эффективной реализации положений, отражённых в ключевых нормативных и концептуальных документах. В статье анализируются экономический, правовой, управленческий и концептуальный аспекты культурной политики Российской Федерации в контексте реализации Основ государственной культурной политики и Указа Президента РФ о защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Существующие исследования, сосредоточенные на отдельных кейсах, не формируют целостной картины и не позволяют выработать устойчивую стратегию преодоления проблем. Настоящая работа выявляет общее аксиологическое основание проблем во всех исследуемых аспектах. Показано, что отсутствие единого подхода к управлению культурной сферой обусловлено концептуальной недоработанностью ценностного фундамента. Обосновывается продуктивность аксиологического подхода, позволяющего однозначно формулировать ценности и предотвращать их произвольные трактовки. Его актуализация открывает возможности для эффективного управления в сфере культуры, укрепления общественной устойчивости и формирования ценностного единства, что способствует укреплению культурного суверенитета России в условиях геополитической нестабильности.
Государственная культурная политика, аксиологический подход, ценностно-смысловые основания, мониторинг, оценка эффективности, правовое регулирование в сфере культуры, финансирование культурных проектов
Короткий адрес: https://sciup.org/170211150
IDR: 170211150 | DOI: 10.34685/HI.2025.95.43.011
Текст научной статьи Культурная политика РФ и её слепые зоны
Публикация Основ государственной культурной политики Российской Федерации, утверждённых Президентом в 2014 году, вызвала рост исследовательского интереса и активизировала работу в сфере культурной политики. В Основах сформулированы ценностные векторы, которые должны идейно реализовываться в прикладной плоскости [31]. Культура, защита и сохранение ценностей вошли также в ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» [33] и Стратегию национальной безопасности [32]. Это официально зафиксировало приоритетность культуры в развитии России. Новой вехой в определении ценностей стал Указ Президента № 809 от 9 ноября 2022 г. по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей [30]. Действительно, перед органами государственной власти, учреждениями культуры и общественными организациями встала задача реализовать культурную политику так, чтобы культура стала фактическим ядром стратегического развития и национальной безопасности, способствовала повышению качества жизни и гармонизации общественных отношений [2, с. 175]. За десять лет с момента публикации Основ государственной культурной политики накопилось достаточно данных для анализа эффективности реализованных проектов, и за последние годы усилился интерес исследователей к вопросам регулирования сферы культуры и оценки её результативности.
К текущему моменту были проведены исследования экономических, правовых, образовательных, управленческих, социологических, концептуальных и региональных аспектов культурной политики. При этом большинство из них проводятся на междисциплинарном стыке, что отражает саму природу культурной политики [35, c. 4]. В рамках многообразия тематик всё больше авторов склоняются к мнению, что при оценке эффективности проектов следует опираться преимущественно на качественные, а не количественные показатели [11, c. 8]. Также существенным достижением является расширение понимания культурной политики как сферы, охватывающей не только очевидные области — культурное наследие, культурные продукты и творческие индустрии, но и культуру в широком смысле. Она включает образование (от дошкольного до высшего), просвещение, коммерческий и корпоративный сектор, телевидение, СМИ, интернет-пространство и др. [2, c. 171]. Всё более актуальным становится ценностно-ориентированный подход, предполагающий его системную реализацию как на горизонтальном, так и на вертикальном уровне управления [35, c. 4]. Это говорит о том, что в области культурной политики складываются консенсусы, которые могут послужить основой для совершенствования механизмов управления. Однако по-прежнему перед исследователями стоит ряд вопросов:
-
а) выбор методологии, внедрение которой уже сегодня сможет качественно оценивать проекты [11, c. 8];
-
б) возможно ли решать часть вопросов на уровне проектирования, а не на уровне последствий и их оценок;
-
в) какое действие закроет общие междисциплинарные проблемы в рамках культурной политики.
Несмотря на наличие уникальной специфики и проблематики в каждом аспекте культурной политики, всё ещё отсутствует системная межотраслевая регуляция этой сферы. Решение локальных задач зачастую носит паллиативный характер, тогда как проблема системного единого управления и общей концепции остаётся открытой [35, c. 2].
Настоящая статья ставит задачу подготовить почву для дискуссии об аксиологическом подходе. Предполагается, что он может выявить системные пробелы в прикладных аспектах культурной политики, обнажить ядро проблемы и заменить локальные решения, направленные на «латание брешей» и препятствующие институциональному регулированию, на системные.
В данной статье представлены результаты исследования четырех основных, на наш взгляд, аспектов культурной политики: экономического, правового, управленческого и концептуального, выделено общее (межотраслевое) ядро проблемы и обозначены наиболее перспективные направления исследований. При этом предложенный аксиологический подход рассматривается как эффективный инструмент в преодолении проблемы разобщённости исследований.
Экономический аспект культурной политики
Экономический аспект в рамках культурной политики обычно включает в себя: а) вопросы государственного бюджетирования; б) эффективные модели финансирования культурных проектов; в) эффективность финансируемых проектов: сколько выделено было на проект и достиг ли он поставленных целей и задач.
До публикации Основ государственной культурной политики и даже после какое-то время по инерции предлагалась к рассмотрению неолиберальная экономическая модель культурной политики. Она подразумевала перемещение рыночной модели в парадигму культуры с целью её коммерциализации. Так, например, по мнению Д.Ш.Ковела, западная система финансирования наиболее перспективна и эффективна. Её структура представляет собой радикальную трансформацию пропорций финансирования с государственного на самостоятельную организацию материальной поддержки за счёт привлечения инвесторов, коммерческих и корпоративных структур, а также самоокупаемости благодаря более качественному оказанию услуг [20, c. 45-46].
Но уже и тогда были исследователи, которые усматривали в этой модели прямую угрозу отечественной культуре и говорили о том, что неолиберальная модель с её краудфандингом приведёт в итоге к упадку [29, c. 21]. Вскоре неуспешный западноевропейский опыт стал показательным. Такой подход в Великобритании, государстве-адепте неолиберальной модели экономического управлении в культурной политике, в итоге привел к закрытию 525 музеев за последние двадцать лет. Отмечается такая же картина в театральной сфере и других секторах творческой индустрии [36].
В отечественной научной среде противоположный взгляд на экономическое управление в сфере культуры сегодня фактически воспринимается как аксиома: культура не может рассматриваться как источник прибыли, не может быть подчинена законам выгоды, её функция – обеспечивать культурный суверенитет и защищать национальные интересы [19, c. 64], и поэтому она преимущественно должна поддерживаться государством [22, c. 59].
Среди проблем экономического аспекта культурной политики рядом автор (В.В.Матвеев [Там же], О.И.Бычкова, Н.А.Костина, Е.Г.Саркисова [3, c. 31]) выделяется недостаточное госфинансирование сферы культуры. С ними не согласен П.А.Шашкин, убежденный, что вызовы культурной политики, её глобальные проблемы не закроются увеличением денежных ресурсов [35, c.4]. Действительно, большее финансирование не равнозначно лучшему результату. Исследователи вносили предложения по сокращению дефицит за счёт коммерции разными путями: через более широкое включение бизнеса в решение проблем культуры [2, c. 173], более активное привлечение коммерческого и корпоративного секторов [19, c 61-62]. Эта идея была отражена в стратегии государственной культурной политики: предусматривается, что к 2030 году 25% финансирования должно предоставляться внебюджетными организациями [28].
Вместе с тем, авторы упоминают о «подводных камнях» вовлечения коммерции в культуру. Как раз они и демонстрируют корневую проблему в межотраслевом функционировании и управлении культурной политики: 1) У предпринимателя как инвестора и государства могут не совпадать интересы, поскольку главная задача предпринимателей – увеличение дохода, стоит приоритетнее ретрансляции государственных ценностей [19, c. 61-62]. Чтобы этого не допустить, государство должно регулировать культурные проекты коммерческого сектора на концептуальном уровне [Там же, с. 62]. 2) Коммерческий сектор как реализатор должен быть осведомлен о концепциях, если он, например, выступает инициатором в разработке культурно значимого проекта. Для этого необходим чётко проработанный документ, фиксирующий положения, цели и ценности государственной культурной политики [Там же]. По мнению А.Ф.Белозор, это будет способствовать и повышению культуры бизнеса и двигать экономику от спонтанно-рыночной системы к социально ориентированной [2, с. 175].
И даже при рассмотрении такого варианта финансирования ключевая проблема – эффективность финансируемых проектов : как её определять и чем измерять? Согласно Основам государственной культурной политики, для оценки эффективности «качественные показатели должны превалировать над количественными» [31]. На данный момент это всё ещё не воплощено на практике [22, c. 69]. Авторы исследования эффективности стратегии региональной культурной политики юга России приходят к выводу, что отсутствие единых унифицированных подходов к концептуальному мониторингу культурных программ приводит к неудовлетворительным результатам, а в последствии и к редуцированию финансирования [3, c. 29].
Итак, «окупаемость» экономического аспекта культурной политики выражается не в прибыли, не в количестве проведённых мероприятий, тематика которых может формально перекликаться с Основами культурной политики. Она конвертируется в культурный капитал – совокупность ценностей, усвоенных индивидом в результате культурного взаимодействия [23, с. 86]. Исходя из этого, эффективное финансирование предполагает превентивный подход: ещё на уровне утверждения бюджета проекта требуется вдумчивый системный анализ того, какие ценности он будет транслировать. Предполагается, что аксиологический подход позволяет выявить концептуальное ядро проекта и ещё на этапе планирования определить степень соответствия стратегическим целям Основ. После реализации «культурную окупаемость» следует оценивать с помощью социологических опросов посетителей. Они должны раскрывать оставленную обратную связь посредством аксиологического подхода: выявлять усвоенные ценности.
Правовой аспект культурной политики
Нормативно-правовая база играет ключевую роль в формировании и реализации культурной политики, выступая основой для эффективного государственного управления в сфере культуры. Законодательное регулирование позволяет структурировать приоритеты, определить цели и механизмы воздействия на культуру, а также обеспечить согласованность действий различных уровней власти и общественных институтов.
На сегодняшний день основными документами, определяющими стратегические ориентиры и правовые рамки культурной политики в России, являются уже упоминавшиеся ранее Основы государственной культурной политики от 2014, Указ №809 от 09.11.2022 о сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Стратегия государственной культурной политики до 2030 г. и Федеральный закон №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Эти акты не только задают вектор государственной деятельности в культурной сфере, но и подчеркивают её значение для устойчивого развития и национальной безопасности страны.
Многие исследователи в области правоприменения рассматривают Основы как ориентир, однако отмечают проблему разрыва между «замыслом», отражённым в вышеперечисленных документах, и его реализацией. В.Г.Елизаров [15, c. 3] и С.Г.Волобуев [4, c. 2] в тезисах на круглом столе, посвященном «Федеральному закону “О культуре” в системе нормативно-правовых актов Российской Федерации» от 9 февраля 2021 года, в первую очередь апеллируют именно к этому непродуктивному обстоятельству. Также Г.А.Заботкин и В.И.Юдин констатируют, что Основы как законодательный акт практически не работают [16, c. 6].
В связи с этим нередко поднимается разговор о необходимости закона «О культуре» или вообще некоего свода законов, которые бы позволили регулировать проекты в правовом ключе. Такие авторы, как В.Г.Елизаров, Г.А.Заботкин, В.И.Юдин, С.Г.Волобуев, И.И.Горлова, В.В.Зубов, П.А.Шашкин выступают инициаторами разработки федерального закона, охватывающего сферу культуры, обуславливая ряд текущих проблем его отсутствием. В первую очередь отсутствие единой законодательной базы в сфере культуры приводит к несогласованности действий между ведомствами [16, c. 7].
Кроме того, значительным препятствием в законодательном управлении является терминологическая неопределенность сферы управления культурной политики, несмотря на то, что в Основах культура представлена как совокупность «формальных и неформальных институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, производство, трансляцию и распространение духовных ценностей (этических, эстетических, интеллектуальных, гражданских и т.д.)». С.Г.Волобуев является представителем межотраслевого подхода и считает существенной недоработкой в культурной политике исключение сфер образования, просвещения, межнациональных отношений и других из областей управления [4, c. 3]. П.А.Шашкин разделяет этот подход, добавляя, что в вотчину законодательного управления должны входить органы публичной власти, институты гражданского общества, государственные компании и негосударственные компании с преобладающим государственным участием. По мнению автора, если не подходить к определению глобально, то невозможно говорить о защите единого культурного пространства страны [35, с. 3].
Другая препона в законодательном управлении культурной политики определена В.Г.Елизаровым, П.А.Шашкиным и В.В.Зубовым как «декларативный» характер ценностей, заявленных в Основах. Под декларативностью подразумевается слишком широкая формулировка ценностей и их векторность: траектория мысли ясна, но право не может на неё опираться в полной мере. Во-первых, именно это провоцирует разрыв с практикой [15, c. 1-2]. Во-вторых, декларативность вследствие «излишней» свободы снижает эффективность управления и препятствует достижению целей и задач культурной политики [16, c.13]. В-третьих, описательный характер ценностей на правовом уровне препятствует превентивному регулированию и даёт пространство для лавирования «нарушителям». Более того, даже если лица, утверждающие проект, опираясь на Основы, могут идентифицировать нарушение на этапе проектирования, у них нет основания обращаться к правовым органам, которые могли бы воспрепятствовать реализации. Подобная «система» приводит к тому, что государство начинает взаимодействовать с нарушителями уже непосредственно после совершения незаконных действий, которые при наличии ФЗ «О культуре» уже было бы можно избежать [18, c. 44-45].
Однако перед тем, как разрабатывать общую законодательную базу, которая будет регулировать культуру в широком смысле, важно доработать текущие ценности более детально с аксиологической точки зрения. Так, например, И.И.Горлова не предлагает пересмотреть ценности как таковые, но обозначает нехватку формулировок и определений и в качестве решения говорит о необходимости разъясняющего документа, в котором каждая ценность должна быть раскрыта [9, c. 12-13]. А.В.Серебреникова говорит о том, что декларативный характер ценностей порождает аксиологический релятивизм и даже может подкреплять криминогенный фактор. Будучи многонациональным государством, важно учитывать культуры малых народов, «духовно-нравственные» ценности которых могут включать в себя действия, нарушающие законы Российской Федерации. В качестве примера приводится традиция «кровной мести» в Южных регионах России [26, c. 59]. И это демонстрирует обстоятельство, лежащее на поверхности данной проблематики.
Настоящий обзор показывает, что большинство исследователей, несмотря на различие в ракурсах, в целом сходятся в оценке правовых проблем культурной политики. Однако есть в исследовательском поле и альтернативная точка зрения. Так, например, Е.Э.Чуковская в тезисах относительно нового закона «О культуре» говорит в первую очередь об обеспечении реализации конституционных прав и свобод для деятелей культуры [34, c.4]. Её позиция выражает переживания многих представителей творческой интеллигенции, касающиеся возможного ограничения свободы творчества в условиях усиления правовой регуляции. Именно в парадигме доминирования творческой автономии российское управление пребывало почти двадцать лет до появления Основ государственной культурной политики, ознаменовавших первый значимый поворот к системному менеджменту. Подобная модель проявила себя неэффективной. В этой связи О.И.Карпухин точно формулирует последствия: «Если культурой не управлять, она начинает деградировать» [19, c. 62]. Важно отметить, что ФЗ «О культуре» не будет противоречить конституционным правам, но в случаях, где государство выступает в роли заказчика, оно имеет право формировать своё концептуальное техническое задание на культурные проекты. Более того, оно вправе требовать от реализаторов эффективного выполнения проектов, которые оно финансирует, и в случаях нарушения должно быть защищено законом.
Таким образом, данная совокупность обстоятельств и в правовом аспекте требует аксиологической доработки Основ государственной культурной политики РФ и Указа №809 от 9 ноября 2022 года. Она включает детализацию и уточнение ценностей с целью преодоления их декларативного характера и терминологической неопределенности в сфере культурной политики. Предполагается, что регуляция должна охватывать не только «культурные учреждения», но и другие гражданские, образовательнопросветительные, коммерческие организации. Дальнейший этап подразумевает закрепление этих положений юридически посредством закона «О культуре», который будет отражать, регулировать процессы, протекающие в культурной жизни России, защищать и отстаивать её культурные интересы.
Управленческий аспект культурной политики
Большинство современных исследований в области культурной политики осуществляются в междисциплинарной плоскости. Это предопределяет тесное переплетение правовых, экономических и управленческих подходов. В данной секции статьи основной акцент сделан на управленческом измерении, в рамках которого рассматриваются следующие вопросы:
-
1) что является предметом управления культурной политики;
-
2) каким образом осуществляется управление проектами, входящими в сферу культуры;
-
3) какая обоснованная степень участия государства в управлении культуры;
-
4) как реализуется мониторинг и эффективность проектов в рамках управления культурной политики;
-
5) в какой мере достигнутые результаты соответствуют ценностным установкам, заявленным в Основах государственной культурной политики.
В результате исследования можно прийти к выводу, что терминологическая неопределенность в отношении культурной политики касается и её управленческого аспекта. С одной стороны, есть мнение, что сферой управления являются «культурные учреждения» и творческая индустрия. Вследствие этого при анализея эффективности культурной политики рассматривают только такие институции [24, c. 6]. С другой стороны, проводятся исследования в сфере культурной политики, которые de facto предметом анализа выходят за «культуротворческие» рамки. Например, в них рассматриваются образовательные системы [10, с. 19-20].
Среди подходов к моделям управления представлены и фундаментальные разработки. Например, А.Ф. и Ф.И.Белозор в статье ссылаются на ценностную вертикаль: в самом её верху располагаются «базовая нормативная основа культуры социума», следующая подступень – правовая, ниже расположены организационная и финансовая основа, а уже «под» ними – межотраслевые социокультурные институты [2, с. 171]. О.Н.Астафьевой также близок этот подходу. Автор делит систему управления на несколько «контуров», представляющих вертикальную ценностную систему управления. Её модель подразумевает, что все «под-контуры» подчиняются ценностным ориентирам, установленным на «высшем контуре», где «определяется широкий диапазон выработки стратегических смыслов, посредством которых должна происходить национальная консолидация» [1, c. 20]. Иными словами, многие исследователи в системе управления ставят на первое место аксиологические векторы.
К вышеупомянутым моделям встречаются уточнения, относящиеся к тому, как должна управляться культурная политика и до какой степени государство должно участвовать в процессах управления. О.И.Карпухин и С.Н.Комиссаров в историческом разрезе моделей управления РФ отмечают тенденцию к государственно-центричному подходу, говоря о том, что эта модель органична и для управления культурой. Более того, по мнению авторов, без должного управления ей политическая, экономическая и военная сферы не будут эффективны [19, с. 65]. Также горизонтальная система управления должна включать не только социокультурные институты, перечисленные у А.Ф. и Ф.И. Белозор, но и корпоративные и коммерческие организации. Подразумевается их переориентация на социокультурный менеджмент [19, с. 77].
И всё же ключевая тематика исследований в аспекте управления культурной политикой посвящена мониторингу и оценке эффективности проектов. Ряд исследователей поднимают проектировочную проблему: отсутствие конвергенции между ценностями, целями и реализацией проектов – это отмечалось как в исследованиях после выхода Основ [8], так и в новейших публикациях последних лет, например, И.И.Горловой, О.И.Бычковой, Н.А.Костиной [12, c. 6] и П.А.Шашкина [35, с. 2]. В статье И.И.Горловой обозначено отсутствие единого методического и методологического подхода к мониторингу стратегических программ культурной политики [12, c. 6]. Это может быть причиной того, что в теме эффективности управления есть большой пул исследований, посвященный региональным проблемам. Существует и отдельный плодотворный жанр «кейсов» культурной политики. Бессистемный мониторинг отражает локальные проблемы, предлагаемые решения которых только купируют симптомы, игнорируя общегосударственную задачу разработать универсальную систему оценки культурной политики.
На настоящий момент система оценки эффективности реализуемых культурных проектов до сих пор не унифицирована. Несмотря на положения, закреплённые в Основах государственной культурной политики, согласно которым при оценке должны преобладать качественные показатели, на практике сохраняется доминирование количественных критериев [11, c. 8]. В ряде исследований обнаруживается формализованный подход, при котором активность демонстрируется через отчёт о количестве реализованных проектов, проведённых мероприятий, посещаемости мероприятий и объёме выделенного финансирования. Вместе с тем, как правило, отсутствует ценностно-смысловая составляющая культурных процессов, не учитываются аксиологическая перспектива и не анализируется обратная связь со стороны аудитории [Там же].
Нельзя отрицать, что количественные показатели являются важными для понимания масштабов деятельности. Однако подлинная эффективность культурной политики проявляется в восприятии, осмыслении и усвоении культурных ценностей целевой аудиторией. В этом контексте формализованная оценка может считаться объективной лишь в ограниченном, административном смысле, не отражая трансформаций в социокультурной среде. В нормативном акте зафиксировано положение об «организационном, аналитическом и информационном обеспечении разработки и реализации государственной культурной политики». Эта формулировка акцентирует внимание на необходимости постоянного мониторинга и обратной связи, обеспечивающих связь между стратегическими целями и их реализацией [31].
Так, если рассматривать управление в сфере культурной политики как процесс «выявления ценностных конфликтов и поиск способов их преодоления» [5, с. 15], то само определение обосновывает необходимость внедрения аксиологического подхода на различных уровнях: на проектном — для исполнителей, на уровне мониторинга и оценки — для управленческих структур [11, с. 10].
Культурную политику следует трактовать максимально широко, включая не только государственные и муниципальные учреждения, но и коммерческий сектор, что также подчеркивается в ряде исследований [1, с. 25]. В рамках такого расширенного подхода аксиологическая гуманитарная экспертиза становится инструментом, способным преодолевать разрыв между целями и фактическими результатами проектов.
Чёткая проработка и конкретизация содержания ценностей, зафиксированных в Основах государственной культурной политики, их системное применение могут выполнять функцию практического ориентира для субъектов культурной политики. Даже на этапе, когда ещё нет уточняющего документа, именно аксиологический подход позволит интерпретировать и оценивать обратную связь, поскольку он раскрывает «ценностное ядро» культурных процессов.
Концептуальный аспект культурной политики и аксиологический подход
Совокупность проблем управленческого, правового и экономического аспектов в итоге приводит к первопричине: она находится на концептуально-аксиологическом уровне культурной политики. Если выйти за рамки культурной политики, то приметы потребности в идейных и ценностных контурах просматриваются и в других гуманитарных отраслях на стыке философии культуры, аксиологии, политической философии, теоретической культурологии и т.д. За последние три года всё чаще поднимается проблема идеологии в отечественной исследовательском поле [21, c. 204-205]. Некоторые авторы отмечают наличие «ожесточённой идеологической борьбы» [17, с. 8].
Проявляемый спрос на идеологию выявляет проблему системного восприятия ценностей. Само наличие этой дискуссии говорит о том, что публика испытывает потребность в консолидации [27, с. 7576]. Однако предполагается, что ценности, прописанные в Основах государственной культурной политики, не донесены до народа как нечто целостное и системно проявленное в культуре. Поэтому основной интерес данной статьи в концептуальном разрезе – не ценности как таковые, а их проработанность.
Важно понимать свойства ценностно-ориентированного подхода к культурной политике. К продуктивным свойствам такие исследователи, как И.И.Горлова и Е.В.Болдырева, относят мобильность и «безотносительность», которая позволяет синтезировать предыдущий уникальный опыт российской истории и культуры [13, c. 15]. Также он даёт определенную свободу и обозначает вектор развития «широкими мазками». Например, Е.А.Полякова и Е.В.Болдырева, говоря и о ценностном подходе, отмечают, что на современном этапе развития российская модель управления имеет больше черты «государства-архитектора», чем «государства-инженера». Первый тип подразумевает частичную самостоятельность, а второй — полный государственный контроль всех сфер культуры [24, с. 6].
Обратная сторона ценностно-ориентированного подхода раскрывает ключевую междисциплинарную проблему культурной политики. Ценности трудно брать в работу из-за декларативности и описательности понятий [9, с 12-13]. Согласно исследованию экономического, правового и управленческого аспектов, можно утверждать, что это порождает проблемы на всех уровнях культурной политики. Действительно, концептуальный аспект представляет собой ядро проблемы, а отсутствие общей проработанности провоцируют смысловые противоречия.
В качестве примера идейной недоговоренности и их последствий в статье Г.А.Заботкина и В.И.Юдина приводится стенограмма пленарного заседания Государственной Думы седьмого созыва от 10 апреля 2018 г., где обсуждался проект федерального закона «О культуре в Российской Федерации». Авторы статьи отмечают, что широта трактовки ценностей, а также отсутствие правового регулирования позволяют «ложно интерпретировать классику» и даже искажать Основы культурной политики РФ [17, с. 9-10]. Противоречащие культурные явления дестабилизируют общество. Именно это и формирует ощущение отсутствия единой концепции ценностей.
Также сама сущность ценности создаёт пространство для смыслового лавирования. По Н.О.Лосскому, считается, что ключевая задача аксиологии – преодолеть аксиологический релятивизм [6, с. 16]. Кроме того, у аксиологического подхода есть две функции, которые необходимо учитывать, чтобы его применение в культурной политике было по-настоящему продуктивным. Во-первых, он обнажает суть, позволяет увидеть культурные процессы изнутри [Там же]. Это можно использовать при разработке, мониторинге и оценке проектов. Во-вторых, подход не только оперирует ценностно-ориентированной моделью, но и должен давать точное определение ценности [6, с. 24], поскольку она «есть не что иное, как этот выбираемый вами смысл» [25, с. 342]. Г.П.Выжлецов отмечает, что релятивизм преодолевается «рациональностью» [6, с. 25]. Под рациональностью также подразумевается осмысление и конкретное наполнение ценности. Так, в государственном проектировании ценностноориентированной модели ценности выступают не только в качестве идеалов [14, с. 114–115], но и подлежат регулированию с учётом их свойств в рамках всей системы управления. После конкретизации предполагается следующий этап — их юридическое закрепление, направленное на обеспечение обязательного соблюдения со стороны исполнителей [11, с. 7].
Отсутствие точных формулировок и единой законодательной базы по вопросам культурной политики уже влекут практические последствия. В частности, в действующих нормативных актах обозначены «духовно-нравственные ценности», однако в условиях многонационального государства их конкретное наполнение может варьироваться в зависимости от культурных традиций и обычаев различных этносов. Как отмечает Д.М.Гаджиев, в ряде регионов Северного Кавказа существуют практики, в рамках которых допускается возможность «откупа» за совершённое общественно опасное деяние [7, с. 4]. Подобные прецеденты демонстрируют, что без нормативного уточнения и системной детализации ценностей их применение остаётся фрагментарным и потенциально конфликтным. Операционализированные и законодательно зафиксированные ценности способны стать инструментом профилактики ненормативного поведения, формируя внутри конкретных культурных групп легитимную основу для его общественного порицания.
Многие из упомянутых в статье исследователей указывают на необходимость уточнения и доработки ценностных установок государственной культурной политики. Согласно проведённому исследованию, проблемные зоны в экономическом, правовом и управленческом аспектах обусловлены недостаточной аксиологической проработанностью заявленных в Основах ценностей. Указанные авторами последствия подтверждают: чтобы ценности действительно работали, сначала их предполагается уточнить, а затем уже утверждать законодательно. Это позволит создать более эффективную систему управления в культурной сфере, снизить риски ценностного релятивизма и обеспечить устойчивое развитие культурных проектов.
Выводы
Проведенный комплексный анализ аспектов государственной культурной политики дает основания для ряда заключений, касающихся различных ее уровней.
На экономическом уровне отсутствие чёткой проработанности ценностей провоцирует неэффективное инвестирование государственного бюджета в культуру и даёт возможность коммерческим организациям интерпретировать государственные ценности с интересах своей выгоды.
На правовом уровне из-за отсутствия законодательной базы по регуляции ценностей профилактический этап упускается, а органы власти работают с нарушениями уже после совершения преступления.
На управленческом уровне обнаруживается много локальных проектных проблем. Однако большая их часть обусловлена нечётким ценностным техническим заданием. Ключевая проблема данного аспекта — это мониторинг проекта от его принятия до оценки эффективности. Текущий мониторинг носит несистемный характер. Кроме того, до сих пор выявляется теоретическая недоговоренность в вопросе, что входит в сферу управления культурной политики. Для эффективного результата, выраженного в реальном культурном объединении народов России, необходимо в самом широком смысле воспринимать культурную политику, выходить за рамки традиционных «культурных учреждений» и включать в управление коммерческий сектор.
На концептуальном уровне выявлено общее межотраслевое ядро проблемы. Оно заключается в недостаточной проработанности аксиологической части Основ государственной культурной политики РФ и Указа № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», с точки зрения точности формулировок. Это даёт пространство для ложных интерпретаций на идейном уровне и провоцирует разобщение общества.
Всё вышесказанное подчёркивает необходимость применения аксиологического подхода к доработке ценностных основ культурной политики. При этом важно учитывать саму природу ценностей. Ценности по своей сути подвижны и многозначны, что даёт возможность релятивистских интерпретаций. Аксиологический релятивизм может быть преодолён через рационализацию, то есть — через чёткое, недвусмысленное формулирование ключевых ценностей. Для системы государственного управления в сфере культуры это означает закрепление ценностей в понятных и работающих категориях. Такое оформление создаёт основу для устойчивой и последовательной модели управления. Грамотно выстроенная аксиологическая экспертиза позволяет выявлять идейное содержание проектов, не допуская продвижения разрушительных смыслов под видом внешне «правильных» форм. Именно несогласованность ценностных ориентиров способна разрушить общество изнутри. Управление в сфере культурной политики сегодня не может позволить себе подобных противоречий. В эпоху укрепления культурного суверенитета особенно важно выстраивать систему, основанную на ясных и разделяемых обществом ценностях — систему, которая будет работать на благо страны и её культурной целостности.