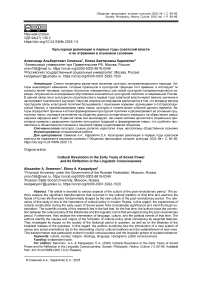Культурная революция в первые годы советской власти и ее отражение в языковом сознании
Автор: Семенов А.А., Карапетян Е.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена различным аспектам культуры постреволюционного периода. Авторы анализируют изменения, которые произошли в культурной традиции того времени, и исследуют те аспекты жизни человека, которые полностью определялись уже новой культурой постреволюционного периода. Актуальность исследования обусловлена значимостью культурной политики в современной России. В данной связи опыт культурного строительства в первые годы советской власти имеет важное значение и заслуживает тщательного изучения. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые авторы проследили связь культурной политики большевиков с языковыми нормами, возникшими в постреволюционный период, и проанализировали связь языка, культуры и политических событий данного времени. Авторы определяют причины и истоки формирования культурной политики и рассматривают ее основные сущностные черты, исследуя ее влияние на общество данного исторического периода и на образ жизни самых широких народных масс. В данной связи они анализируют, как новая система ценностей и социальных ориентиров привела к разрушению прежних культурных традиций и формированию новых, что особенно проявлялось в общественном сознании и языковой сфере существования общества.
Культура, социум, религия, идеология, язык, неологизмы, общественное сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/149147437
IDR: 149147437 | УДК: 94(47):130.2 | DOI: 10.24158/fik.2025.1.9
Текст научной статьи Культурная революция в первые годы советской власти и ее отражение в языковом сознании
Революционные события 1917 г. изменили не только политический, социально-экономический ландшафт Российской империи, но и привели к трансформации всех аспектов жизни российского общества, которые до этого относительно стабильно и поступательно развивались эволюционным путем. Одним из таких важнейших изменений в общественной жизни страны после февраля и особенно после Октября 1917 г. стала самая настоящая культурная революция, которая произошла в российском обществе. Естественно, она случилась не сразу, не в один момент, но стала долговременным следствием революционных изменений, произошедших в России с 1917 г. В данный период прежняя российская традиционная культура оказалась отброшенной, и на смену ей пришла новая революционная культура российского общества, вызванная к жизни масштабными политическими и социальными изменениями в стране после Октября 1917 г. Стало совершенно очевидно, что общество не может развиваться в прежней парадигме культурного генезиса. Оно вступило в совершенно новый этап своего существования, связанный с новой системой ценностей, общественно-политических ориентиров, трансформацией общественного сознания, мировосприятия и мировоззрения.
Почему возник сам термин «культурная революция»? Дело в том, что произошедшие в стране изменения затронули повседневное существование практически всех слоев общества, их образ жизни, быт, систему социальных ориентиров и т. д. Никогда прежде такие перемены не отмечались в России. Они были настолько революционны и всеобъемлющи, что можно без преувеличения сказать: они затронули жизнь каждого отдельного человека Российской империи. От этих перемен нельзя было укрыться нигде: ни в самой отдаленной точке географического пространства, ни даже находясь за границей. Их невольным участником стал каждый индивид бывшей царской России. Отныне его жизнь коренным образом изменилась, приобретая крайне радикальные формы и способы существования. Конечно, эти изменения культурного ландшафта страны не были вызваны только лишь революционными событиями 1917 г. Они происходили задолго до этой судьбоносной в российской истории даты, но шли длительное время эволюционным путем, без каких-то общественных потрясений или кардинального слома всех устоев общественной жизни. По сути, начиная с великих реформ Александра II, российское общество вступило в полосу культурной трансформации. Уже эти реформы привели к возникновению совершенно новых направлений в общественной жизни страны и ее культуре. Данные процессы существенно ускорились в конце XIX - начале XX вв. Общественно-политическая модернизация России, развитие политического процесса в стране, социальные и политические реформы вызвали к жизни и изменения в сфере культуры. С началом же революционных событий 1917 г. они стали поистине необратимыми. С этого момента начался ускоренный распад и разрушение прежней традиционной культуры императорской России и возникновение новой, революционной по своему духу и внутреннему содержанию.
Эта формирующаяся новая культура общества захватила практически каждого человека и коренным образом изменила общественные отношения и всю систему социальных связей в стране. Каким бы приверженцем культуры прошлого ни оставался индивид в российском обществе, он рано или поздно все равно оказывался в орбите новых культурных веяний, новых тенденций общественного развития, и даже у адептов культуры прошлого, все еще сохранявшихся в России в этот период, прежняя культура и система ценностей существенным образом девальвировались и обрели совершенно иное содержание. Процессы изменения культуры, таким образом, в данный период захватили весь российский социум.
Исходя из этого, возникает вопрос о том, в какой степени они были продуктом произошедших революционных изменений в общественной жизни, а в какой ‒ были навязаны российскому обществу различными политическими силами, которые выступали за его кардинальное, революционное переустройство. Как представляется, данный процесс культурных изменений носил многогранный характер. Он определялся как фактором социокультурного эволюционного развития в пореформенный период, так и радикальными социальными и культурными изменениями, произошедшими в обществе в период Первой мировой войны. Но в значительной мере он был обусловлен социальной и политической платформой различных партий, движений, политических течений, действующих в России в тот период, целью которых была коренная трансформация не только государственного устройства, но и всей системы общественных отношений. Совершенно очевидно, что все эти три фактора сыграли немаловажную роль в процессах культурной трансформации, происходивших в российском обществе в революционный и постреволюционный период.
Сам термин «культурная революция» был, по сути, сконструирован В.И. Лениным в 1923 г., но понятие об этом явлении существовало и значительно раньше. Оно вполне определилось после начала процесса революционных перемен в российском обществе. В.И. Ленин лишь, по существу, осмыслил данный процесс и пришел к выводу, что для построения социализма в стране одних общественных и политических перемен недостаточно, а требуется коренное изменение сознания масс и формирование их новой культуры, пролетарской по содержанию и революционной по духу (Панфилова, 2017: 105). Культурная революция, по мысли Ленина, должна была охватить не только наиболее просвещенные слои российского общества, но и в большей степени самые широкие народные массы, представленные в России в виде крестьянского населения, в основном малограмотного и настроенного консервативно1.
Только изменения этого самого широкого круга населения страны, его сознания и мировоззрения, как считали вожди большевистской партии, могут привести к возникновению условий, необходимых для построения социалистического общества в стране2. Конечно, такие изменения были немыслимы без широкого распространения образования и грамотности в народной среде, а также без создания материально-технической, экономической базы данных перемен3. В процессе этих изменений большая роль отводилась языку как средству получения первичной грамотности и фактору, обусловливающему трансформацию сознания общества.
Причем эти перемены, по мысли руководства большевистской партии, должны были наступить вследствие реформ практически всех сфер общественной жизни страны, начиная от политического и государственного устройства и заканчивая обыкновенной грамотностью каждого чело-века4. Если брать политические силы, которые оказали определяющее развитие на процессы социокультурной трансформации в России, то, безусловно, большевистской партии в них принадлежит главное место, хотя и остальные политические силы бывшей Российской империи не были в стороне от этого процесса и в той или иной степени участвовали в нем. Их социальные, политические доктрины, реформистские программы переустройства страны так или иначе подразумевали существенное изменение ее культурного ландшафта, но, разумеется, большевики были самыми радикальными и последовательными сторонниками культурных изменений в обществе5.
Сам по себе марксизм и существенно дополнившее его ленинское учение предполагали, что сфера культуры является одной из ведущих сфер жизни общества и наряду с экономикой и социальными отношениями служит важнейшим фактором общественного переустройства, создания необходимого фундамента для осуществления социалистических преобразований в обществе. При этом большевики и их политические союзники вовсе не стремились полностью избавиться от достижений культуры прошлого. Напротив, сам В.И. Ленин неоднократно подчеркивал, что необходимо в новой пролетарской культуре оставить все то ценное и работоспособное, что есть в культуре прошлого, и уже на основе этого строить новую социалистическую культуру6. Сюда он также относил и образование, и науку, и достижения научно-технического прогресса, связанные с капиталистическим строем7.
В.И. Ленин и большевистское руководство исходили из того, что без использования всех этих достижений прежнего капиталистического общества построение социализма в стране невозможно. Поэтому из капиталистического прошлого следует заимствовать лучшее, что в нем есть, т. е., по их мысли, должно было произойти ее воспроизводство на новом этапе исторического развития, связанного с построением социализма. На этой базе и должна была возникнуть новая социалистическая культура, которая включала в себя лучшие образцы мировой, а также русской классической и народной культуры (Родькин, 2017: 27). «...Безумец будет тот, кто может думать, что создававшуюся веками, десятками поколений русскую культуру можно вышвырнуть в окно. Нет, этого никогда не будет»8. В данном контексте значительную роль в процессах культурной трансформации российского общества большевики отводили распространению атеизма и борьбе с прежними христианскими ценностями (Александрова, 2018: 23). При этом большевистское руководство в определенной степени заимствовало христианскую экзегетику, ее обрядовую и ритуальную часть, а также организационные принципы для распространения новой марксисткой идеологии (Александрова, 2018: 23). Именно атеизм, в комплексе соединенный с образованием и просвещением, по мысли большевистских лидеров, и должен был сформировать новую советскую культуру, основанную на пролетарских ценностях и идеологемах марксизма, хотя этот процесс был изначально связан с большими трудностями. В документах тех лет отмечалось: «Коммунистическая партия хорошо знает, какие громадные трудности стоят перед ней и советской властью в этом деле»9.
Вместе с тем не стоит думать, что к разрушению прежней культуры российского общества, его системы ценностей и христианского мировоззрения, некогда господствующего в нем, привела только лишь политическая и идеологическая деятельность большевиков, а также представителей других социалистических партий в стране. Дело здесь заключается в том, что процесс кардинального переустройства российского общества, включавший в себя изменение его культуры и всей системы ценностей, лишь в определенной степени обуславливался деятельностью различных политических сил и партий. По большей части данный процесс носил естественный и эволюционный характер. Конечно, радикальная деятельность большевиков, направленная на переустройство всех аспектов существования российского общества, существенно ускорила его ход и сказалась на достигнутых им целях и результатах. Но сам по себе он начался задолго до прихода большевиков к власти и даже до того, как они начали активно участвовать в политической жизни России. Он был связан, с одной стороны, с общими структурными и мировоззренческими изменениями самой сути мировой цивилизации в тот период, а с другой – с внутренними процессами, протекавшими в российском обществе.
С конца XIX и начала XX вв. практически вся мировая цивилизация пережила процесс коренной трансформации и вступила в новый этап своего исторического развития, который характеризовался общественно-политической модернизацией, мощным индустриальным подъемом, значительными достижениями научно-технического прогресса, урбанизацией и распространением массовой культуры. Данные процессы затронули практически все развитые страны, составлявшие в то время ядро современной цивилизации. Естественным образом они распространились и в России, которая также была частью европейской цивилизации и культуры. Следствием этих процессов стало постепенное снижение значения религии в обществе и распространение атеистического технократического сознания.
Действительно, с конца XIX в. значение религии в ведущих индустриальных странах тогдашнего мира неуклонно снижалось, возникал новый тип общественного сознания и мировоззрения, основанный на достижениях науки и техники и включавший в себя формирование нового мировосприятия, становление объективной научной картины мира и системы ценностей, основанной на изменившихся ориентирах общественного сознания. При этом прежние ценности и символы культуры прошлого уходили в небытие. Традиционалистское сознание все еще присутствовало в мировоззрении значительной части населения планеты, но в самых развитых странах постепенно наблюдалась его коренная метаморфоза, и вместо прежних традиционалистских основ существования и религиозных ценностей возникало новое мировоззрение, обусловленное научной картиной мира. Так что процесс деградации и распада прежней культуры не был чисто российским явлением. Напротив, он представлял собой основополагающую тенденцию развития всей мировой цивилизации в этот период. В значительной мере этот процесс затронул и Россию, но в российском обществе также имелись свои факторы, способствовавшие трансформации культуры, среди которых политическая деятельность большевиков была действительно значимым моментом. «В рассматриваемый период проблема состояла в том, чтобы начать собственное духовное движение некультурных масс» (Жидков, Соколов, 2001: 537).
После завершения великих реформ общественное сознание также переживало коренные метаморфозы. К началу XX в. в России получили широкое распространение различные достижения научно-технического прогресса, оформились различные общественно-политические течения, появились разнообразные идеологические доктрины. Общество становилось все более светским, и научная картина в нем получала широкое распространение, но, в отличие от многих европейских стран, в плане государственного устройства и общественной организации Россия представляла собой достаточно устаревшую форму традиционной общественной жизни. Не менявшаяся столетиями социальная структура общества, его сословное деление, государственное устройство в виде самодержавной монархии в данный период вступали в значительное противоречие с социально-экономической модернизацией страны.
Кроме того, опора правящей элиты на религиозную доктрину православного христианства и ее всемирное использование в качестве идеологической базы общественного развития вступало в объективное противоречие и с процессами общественной секуляризации в стране, и с формированием научного мировоззрения и научной картины мира в российском обществе. Все эти факторы, взятые вместе, приводили к существенному напряжению российского социума, возникновению в нем различного рода противоречий, социальных конфликтов и новых разделительных линий. Социально-экономическая модернизация страны плохо сочеталась с традиционной в этот период сословной структурой общества, архаичной политической системой и религиозным догматическим сознанием. Все это делало Россию особо восприимчивой к радикальным течениям и доктринам, распространяемым общественно-политическими движениями и партиями того времени.
Исходя из этого, перемены в культуре российского общества уже происходили достаточно давно, и большевики лишь ускорили данный процесс. Значительную роль в его развитии в стране сыграла отечественная интеллигенция, которая видела главную свою цель, с одной стороны, в достижении политических изменений в российском обществе, а с другой – в его просвещении и распространении в нем передовых идей. Именно интеллигенция вела в новой России самую широкую образовательную деятельность. «Борьба с неграмотностью ведется успешно. Посещаемость ‒ 85 %. Тормозит занятия отсутствие обуви у красноармейцев»1.
Таким образом, именно представители российской интеллигенции были участниками самых радикальных политических движений и течений бывшей Российской империи. Ее деятельность, несомненно, способствовала развитию революционных процессов в российском обществе. Она приводила к расшатыванию основ государственной системы империи и в конечном счете способствовала падению российского самодержавия. Образовательная, просветительская активность интеллигенции приводила к распространению новых культурных веяний и формированию совершенно новой культуры, отличной от традиционной, по существу, культуры нового исторического периода, связанного с процессами социально-экономической модернизации и возникновением нового технократического сознания. «Как врага мы победим, // На машине полетим. // Ух, как хочется мне страсть, // В грузовик большой попасть» (Иванова, 1994: 62).
Именно интеллигенция в составе различных политических течений и партий, а также общественных движений вела политическую деятельность, распространяла новые идеологемы и доктрины, способствовала образованию и просвещению народных масс, а также их приобщению к культуре. «Это означает, что вследствие консенсуса, царившего между новыми представителями власти и широкими кругами даже нереволюционной интеллигенции, сотрудничество представлялось целесообразным, пока основные установки режима по поводу культурных перемен не расходились...» (Плаггенборг, 2000: 329).
Новое постреволюционное устройство общества и новая система ценностей, формируемая большевиками в рассматриваемый период, требовала совершенно нового языка, не связанного с историческим прошлым. Им должен был стать язык, отражающий новую систему мироустройства и общественно-политическую реальность революционного общества. «Значительное отличие языка революционного времени после 1917 г. от языка более раннего времени заключается в том, что появились новые термины, новые значения в связи с новыми явлениями, предметами, относящимися к 1917 и последующим годам» (Селищев, 2003: 68–69).
Языковой вопрос в данный период имел особую остроту. По мысли большевистских лидеров, новые формы языка выражали и новое содержание революционной культуры масс, они отражали окружающую революционную действительность и стремление российского общества к кардинальным всеобъемлющим преобразованиям. «<…> языковое творчество сопутствовало творчеству социальному и политическому»2.
Реформа языка, проведенная новым советским правительством, коренным образом изменила эту часть культуры социума и привела к возникновению новых стилей общения, лексических форм и новой революционной языковой семантики. Особенно эти перемены были заметны в публицистике, песенном творчестве, повседневном общении, а также в широко пропагандистских революционных лозунгах, которые в рассматриваемый период постоянно окружали человека того времени.
Конечно, такие изменения в меньшей степени ощущались в серьезной литературе (в поэзии и прозе), но во всех остальных сферах общественной жизни революционный новояз использовался чрезвычайно широко. Он был предвозвестником новой революционной культуры, которая меняла всю сложившуюся систему общественных отношений. «…Поделиться с близкими лицами своими переживаниями, обсудить те или иные вопросы, подействовать на чувство и волю отдельных лиц и целых групп – все это вызвало усиленную речевую деятельность в среде населения, охваченного революционным движением» (Селищев, 1991: 88). Новый революционный язык должен был порвать с языковыми формами прошлого как частью традиционной культуры и выражать новую систему общественных связей и ценностей. Б.А. Успенский писал: «…создание нового литературного языка определяется …идеологическими потребностями, обусловленными в свою очередь культурной ориентацией: эта задача выступает и формулируется как своего рода социальный заказ» (Успенский, 1994: 120). По нашему мнению, революционный язык – это та форма языкового сознания и ее вербального лексического выражения, которая возникла после революционных потрясений 1917 г. и отражала общий настрой народных масс на кардинальное преобразование окружающей действительности. Языковое сознание характеризуется событиями и явлениями того периода, нашедшими выражение в новых лексических формах, которые становились языковым воплощением определенного восприятия реальности. На наш взгляд, его очень рельефно характеризуют следующие термины, возникшие в период революции и гражданской войны: санчека, лекпом, сов-проф, рабис, губпрофсовет, продразверстка, продналог, комтруд, субботник и др.
Таким образом, перемены, произошедшие в культуре постреволюционного периода, были чрезвычайно многогранны, они затрагивали практически все аспекты жизни человека в постреволюционный период. Данные перемены, с одной стороны, были подготовлены эволюционным характером развития российского общества в предреволюционный период, процессами модернизации и изменением внутри тогдашней мировой цивилизации в целом. С другой стороны, они были связаны с процессом радикального революционного переустройства самого российского общества и отражали существующую в нем постреволюционную реальность. Действительно, данная реальность предполагала практически полный разрыв с традиционной культурой прошлого, ее идеологическим и идейно-концептуальным базисом, главными частями которого являлись самодержавная монархия и религия. После Октября 1917 г. наступала совершенно новая историческая эпоха, связанная с процессами общественного переустройства и трансформации всей системы социальных связей. Эти перемены были настолько радикальны и всеобъемлющи, что можно с полным основанием сказать: они затронули каждого человека на пространстве бывшей Российской империи. Они были вызваны естественной эволюцией общественных отношений, ускорением исторического времени в этот период, но в то же время инициировались и продвигались в жизнь большевистским руководством, новой государственной властью, установившейся в стране после Октября 1917 г. Целью этой власти было формирование с помощью образования и просвещения самых широких народных масс новой общественно-политической реальности и новой культуры.
Эта культура отличалась революционностью, видоизменением всех основ ранее существующей общественной организации, появлением новых смыслов и системы ценностей. По существу, это была культура новой исторической эпохи и нового времени, которая открывала дорогу общественно-политической модернизации России, становлению технократического общества, машинерного сознания, новой системы ценностей и морально-нравственных ориентиров, связанных с идеологемами марксизма и большевизма.
Чрезвычайно значимой частью этой социокультурной трансформации стало изменение языка того времени и появление так называемого новояза, который отражал содержание формирующейся новой культуры постреволюционного периода. Этот новый язык в полной мере отражал существующие общественно-политические реалии постреволюционного периода и различные аспекты жизни уже советского человека, порвавшего с традиционной культурой императорской России. Это был человек нового времени, который должен был говорить по-новому, используя революционные термины и неологизмы в своей повседневной речи. Так с помощью новых языковых форм трансформировалось общественное сознание населения страны того времени. Эта трансформация все больше отдаляла его от прежней традиционной культуры, разрывая связи и линии коммуникации с ней. Вследствие этого, по существу, в постреволюционный период стал формироваться человек нового времени, который был тесным образом связан с уже раз и навсегда изменившейся общественно-политической реальностью советского строя и социалистического общества.
Список литературы Культурная революция в первые годы советской власти и ее отражение в языковом сознании
- Александрова А.Д. 1917: поиск символов "новой культуры" // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2018. Т. 2, № 4 (36). С. 22-25. EDN: PQBZTX
- Жидков В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: Картина мира и власть. СПб., 2001. 633 с.
- Иванова Т. "Ай да славный, красный Питер.".: Городская частушка времен революции и гражданской войны // Родина. 1994. № 7. С. 61-65.
- Панфилова Т.В. Культурная революция: размышления о прошлом в назидание будущему // Концепт: философия, религия, культура. 2017. № 4 (4). С. 104-115. EDN: YLJYMA
- Плаггенборг Шт. Революция и культура: Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб., 2000. 416 с.
- Родькин П.Е. Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года и первый в истории опыт массовой культуры // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9, № 3-2. С. 24-29. DOI: 10.17748/2075-9908-2017-9-3/2-24-29 EDN: ZCILDP
- Селищев А. М. Язык революционной эпохи: из наблюдений над русским языком последних лет. 1917-1926 // Русская речь. 1991. № 1. С. 86-110.
- Селищев А.М. Язык революционной эпохи // Труды по русскому языку. Т. 1. Социолингвистика. М., 2003. С. 47-279. EDN: QWEMKF
- Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI-XIX вв.). М., 1994. 240 с.