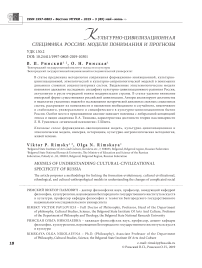Культурно-цивилизационная специфика России: модели понимания и прогнозы
Автор: Римский Виктор Павлович, Римская Ольга Николаевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 3 (89), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье предложена методология сопряжения формационно-эволюционной, культурноцивилизационной, этнологической и культурно-антропологической моделей в понимании динамики сложных социокультурных систем. Выделенные эпистемологические модели позволяют адекватно исследовать специфику культурно-цивилизационного развития России, актуальную в русле очередной волны модернизации страны. В статье уделено внимание имперской форме существования российской цивилизации. Авторы анализируют достоинства и недостатки указанных моделей в исследовании исторической динамики сложных социальных систем, раскрывают их возможности в выявлении необходимого и случайного, изменчивого и стабильного, универсального и специфического в культурно-цивилизационном бытии России. Особое место в предложенном анализе занимает полемика с либеральной концепцией этноса и нации академика В. А. Тишкова, характеристика достоинств теории пассионарности Л. Н. Гумилева и «этнической психологии» Г. Шпета.
Формационно-эволюционная модель, культурно-цивилизационная и этнологические модели, империя, историцизм, культурно-антропологическая методология, живой человек
Короткий адрес: https://sciup.org/144161280
IDR: 144161280 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24411/1997-0803-2019-10301
Текст научной статьи Культурно-цивилизационная специфика России: модели понимания и прогнозы
В современном социально-гуманитарном дискурсе уже стало банальным рассуждать о своеобразии каждой эпохи и цивилизации, включая культурно-цивилизационную специфику Россию. И в то же время мы вписаны во всемирно-исторический процесс глобализации. Как всеобщее и универсальное сочетается со своеобразным и уникальным в национальном бытии России? В поисках ответа нам не обойтись без анализа различных эпистемологических моделей социального исследования. Но как соотносятся сами эти модели? Возможны ли их сочетания в целях более адекватного понимания российского культурно-цивилизационного типа?
В предлагаемой статье авторы рассматривают способ сопряжения известных моделей понимания истории, через призму которого оказывается возможным освоить специфику нашего культурно-цивилизационного типа. Но осознание и освоение российской социокультурной динамики в теории должно стать выражением указанно- го синтеза на практике и условием социокультурного прогноза. Именно сопряжение ряда эпистемологических моделей в культурно-антропологическом понимании исторического процесса, по мысли авторов, создаёт условия для отделения мифологического от конкретно-исторического в имперской идее как культурно-цивилизационной форме бытия России.
Формационно-цивилизационная и культурно-цивилизационная модели понимания истории
В области социально-гуманитарного знания формационно-эволюционную эпистемологическую модель, и соответствующую ей методологию исследования, всегда ассоциировали с именами классиков марксизма. Уже в «Манифесте коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, одной из первых репрезентативных публикаций в марксизме, мы видим данную методологически выверенную классовую схему познания истории человечества [11, с. 424–
-
425]. При анализе формационно-эволюционной модели нельзя обойти стороной классическую характеристику её В. И. Лениным: «Как Дарвин положил конец воззрению на виды животных и растений, как на ничем не связанные, случайные, “богом созданные” и неизменяемые, и впервые поставил биологию на вполне научную почву, уста-
- новив изменяемость видов и преемственность между ними, – подчёркивает Ленин в одной из своих ранних работ “Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?”, – так и Маркс положил конец воззрению на общество, как на механический агрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле начальства (или, всё равно, по воле общества и правительства), возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс» [10, с. 137, 139]. Мы опускаем предвзятое критическое отношение к формационно-эволюционной методологии, которое активно воспроизводится в российской социально-гуманитарной науке с 90-х годов ХХ века. И это притом, что сами ниспровергатели марксизма повторяют фор-
- мационно-эволюционную модель истории в терминологической оболочке других, немарксистских теорий. Наиболее характерно это выражено у представителей теории информационного и постиндустриального общества.
Приведённое выше сравнение Лениным К. Маркса и Ч. Дарвина, а значит, марксизма и дарвинизма, не было лишено смысла в указанную эпоху: способ мышления в социальных науках XIX века во многом складывался под влиянием естествознания. Поня- тия «формация» и «революция», «социальный организм» и «политический организм», «род», «вид» и «класс» у большинства социальных мыслителей стояли в одном ряду и были нагружены специфическим естественно-научным содержанием. Для характеристики этого методологического приёма его критики использовали понятие пози- тивизма.
Формирование формационно-эволюционной модели происходило в процессе поисков устойчивых взаимоотношений между историческими фактами. Речь шла о распространении принципов детерминизма на историю, когда она предстаёт в свете необходимой взаимосвязи причин и следствий, исследуя которую Маркс и Энгельс стремились дать знаниям об историческом процессе научное объяснение.
Акцент в формационно-эволюционной модели на сопоставлении общественных форм, воплотившихся в константных образованиях – производительных силах, институтах собственности, политических институтах, формообразованиях науки и всей духовной культуры, конечно, приближал социальную науку к идеалу научной строгости и точности. В рамках марксистской версии детерминизма уже стало возможным классифицировать экономические уклады и формы правления, исторические эпохи. И главное, к чему стремилась социальная наука, сделавшая ставку на методологическую парадигму детерминизма, – возможность с большим или меньшим успехом предсказывать будущее. Но именно в этом пункте не только в прошлом, но и в настоящем обнаруживается ограниченность той версии формационно-эволюционной модели, при которой не видят существенного отличия этого подхода от естественно-научного детерминизма. Именно в последние десятилетия «научно-футурологические предска- зания» демонстрируют свою противоречивость, оказываются сомнительными. И как раз в этом пункте открывается перспектива для синтеза формационно-эволюционной модели с культурно-цивилизационной моделью, способной выражать не только устойчивое, но и уникальное в историческом процессе. В этой связи авторы уже неоднократно писали, что формационно-эволюционная парадигма вовсе не противоречит культурно-цивилизационным эпистемологическим схемам и моделям [см.: 17; 26]. Но и последняя страдает определённой ограниченностью, которая провоцирует необходимость указанного выше синтеза.
Как известно, классикой культурно-цивилизационной эпистемологии является уникальное произведение русского мыслителя Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» [6], а также прямо или косвенно связанные с этой книгой труды О. Шпенглера «Закат Европы» [24] и А. Тойнби «Исследование истории» [19]. Культурно-цивилизационная эпистемологическая модель , которой в последние двадцать лет стремятся вытеснить формационно-эволюционную модель, не ликвидирует её главного недостатка, каким является естественно-исторический схематизм . Многие российские учёные, рассуждая о культуре и цивилизации и используя эти концепты для объяснения исторических событий, убеждены, что отстаивают «культурно-историческую онтологию». При этом известный мыслитель ХХ века К. Поппер не без основания усматривал почти во всех теориях культурно-исторического процесса недостаток историцизма [12], так как в них может идти речь лишь об идеальных типах в их веберовской трактовке.
Такого рода идеальные типы, конечно, помогают выделять и анализировать культурно-цивилизационные типы. И всё же созданные таким образом концепты ока- зываются продуктом системных аналогий, не имеющих отношения к содержательному своеобразию и конкретно-историческим характеристикам разных обществ и культур, анализ которых выпадает на долю специальных наук.
Характерным примером такого прямолинейного историцизма, если пользоваться понятийным аппаратом Поппера, являются построения тех российских исследователей, у которых «российский культурно-цивилизационный тип» адекватным образом объясняется через конфликт «догоняющей модернизации» в России с её якобы патриархально-общинным и авторитарно-этатистским наследием. Но в том-то и дело, что своеобразие культурно-цивилизационных процессов в России не «ухватывается», если мы исходим из традиционных оппозиций типа «традиционализм – модернизация». Это своеобразие не понять и через призму отечественного типа «маргинальной цивилизации». Нельзя объяснить наш культурно-цивилизационный тип и посредством элементарного суммирования общей парадигмы с «национальной спецификой».
Как же возможно гармонизировать формационно-эволюционную и культурноцивилизационную парадигмы? Как совместить, с одной стороны, дискретность исторического процесса, а с другой – момент эволюционной преемственности? Как соединить плюралистичность, многообразие культур и принцип прогресса всего человечества? То же касается материального и духовного в истории. Являются ли «материальные факторы» – уровень развития техники, состояние экономики, формы собственности и т.д. – движущими силами и пружинами исторического процесса? Или в роли определяющих моментов выступают такие духовные факторы, как религия, мораль, искусство и т.п., которые способны в исторической перспективе определить ход развития народа? Ведь мы знаем, как страны, преуспевшие в технико-экономическом и экономическом плане, вдруг упирались в мистические «стены» и «плотины», а затем сходили с арены истории.
Культурно-цивилизационная и этнологическая эпистемологические модели
Н. Я. Данилевскому принадлежит первая попытка дополнить культурно-цивилизационную методологию этнологической моделью. Но указал на дилемму, возникающую при противопоставлении двух эпистемологических моделей, именно Л. Н. Гумилёв [см.: 4; 5]. При этом формационно-эволюционную модель он именует «всемирно-исторической». В рамках этнологической модели Гумилёв предложил еще одну «переменную» – этногенез и этническую историю, что, с его точки зрения, не сопряжено с всемирно-историческим и культурно-цивилизационным развитием по причине того, что этнос есть нечто сугубо природное, реализованное в «социальном теле» культурного бытия.
Л. Н. Гумилев выстраивал свою теорию этноса в противовес не только «истматов-ской» версии «теории наций и народов», но и либеральным концепциям этноса и наций, а потому в интеллектуальной атмосфере 1990-х годов оказался вполне уязвим для критики. Разобраться в этой ситуации важно ещё и потому, что при интерпретации и критике той или иной теории вряд ли возможно осуществлять указанные эпистемологические процедуры без выяснения их философско-мировоззренческих и политико-идеологических основ. Тем более, это касается теории этноса и наций, которая с самого начала не была безобидным «объективно-толерантными» научным постро- ением. Здесь перед нами научное знание, уходящее корнями не только в практики повседневности, где формируется этнокультурная и личностная идентичность, но и в практики политического и идеологическо- го управления, что, в свою очередь, является источником социальных и политических мифов.
В последние годы в профессиональной среде обострились споры как раз вокруг этнологической методологии в исследовании культурно-цивилизационной специфики. Главной фигурой в этих спорах стал академик В. А. Тишков, который от имени либеральной концепции этноса и наций подверг радикальной критике теорию пассионарности Л. Н. Гумилёва и марксистскую версию теории этноса в лице Ю. В. Бромлея, который до него занимал пост директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Не будем разворачивать в этой статье всю свою аргументацию против позиции В. А. Тишкова, которая представлена в ряде других публикаций [см.: 16; 17; 26], где, в частности, мы предлагаем собственное понимание концептов «этнос» и «этничность».
Обратим здесь внимание на то, что В. А. Тишков сориентирован на концепцию «гражданской нации». Но подвергая критике субстанционалистский и конструктивистский подходы за так называемый онтологизм, он сам двигается в сторону релятивизма. И тогда не совсем понятно, чем концепт российской нации, который Тишков рекомендует российским политическим элитам, отличается от понимания нации и национальной политики в марксизме, которое составляло основание новой исторической общности «советский народ».
Нет смысла спорить с тем, что процес-суальность и мощный социально-символический конструктивизм характерен для трансформации этносов. Но означает ли это, что у таких процессов нет онтологического основания? Констатация Тишковым культурной идентичности как основы этносов и этничности [18, с. 483] является таким же эссенциализмом, в каком Тишков обвиняет марксизм и теорию Л. Н. Гумилёва. Только в его варианте в роли субстанции выступает абстрактная «культура», в которой он растворяет этничность, причём в довольно тривиальном виде.
Ситуация во многом проясняется там, где мы обращаемся к истокам этнологической модели. На рубеже XIX–XX веков формирующиеся антропологии (философская, культурная, социальная и т.д.) использовали содержательно размытые концепты, близкие немецкому völkisch ( Völkerpsychologie и т.п.), Deutschtum и онтологическому Zeitgeist , которые уходили своими корнями в немецкий философско-эстетический романтизм времён И.-В. Гёте и в поздний философский неоромантизм консервативного толка – от Ф. Ницше и Ф. Дильтея до М. Хайдеггера. В определённом смысле перед нами специфический völkisch дискурс [3, с. 25–79], который питал тоталитарные революции начала ХХ века (как большевистский проект «интернационализации наций», так и нацистское «возрождение рейха»).
Однако в ту же эпоху, в том числе и в советский период, мы встречаем серьёзные работы, в которых присутствуют не только концепты «нация», «народ», «народный дух», но и «этничность», о чём пишет Г. Г. Шпет [25, с. 486]. Характеризуя свою этническую психологию, которая вполне сопрягается с теперешними социальной антропологией и этнологией, Шпет говорит о концептуальных основах указанной научной дисциплины [25, с. 494] и намного раньше В. А. Тишкова и известных западных конструктивистов выступает с крити- кой субстанционалистского (эссенциалист-ского) понимания феноменов этнического.
Выясняя природу философско-метафизических спекуляций с концептами «дух» и «коллективность» в изучении этнических феноменов, Г. Г. Шпет пишет о «региональных антропологиях» следующее: «Антропологические теории непосредственно примыкают к биологическим, последние же, под влиянием новых натурфилософских теорий витализма и новых объяснений наследственности (в особенности менделизма), заметно склоняются в сторону тенденций суб-станционалистических» [25, с. 548]. Здесь же он отмежевывает собственные дескриптивные методы от генерализирующих схем антропологии, уточняя необходимость «противопоставить резче своё понимание этнической психологии как социальной, этнологической, описательной, аналитической, интерпретативной толкованию её как антропологической, генетической, объяснительной, субстанциальной» [25, с. 548]. Шпет критикует и варианты этнографического материализма как разновидности исторического материализма. Здесь следует сказать и о работах С. М. Широкогорова который был первопроходцем в развитии теории этноса, задолго до Ю. В. Бромлея и Л. Н. Гумилева [см.: 15; 23].
Мы не можем обойти стороной и вопросы научной этики в научной дискуссии, где недопустимы ироничные «похлопывания по плечу» своих предшественников, как это делает В. А. Тишков, когда пишет: «Последние “фишки” неофитов в сфере этнологии – это психологизация этноса и национализма, выросшие из уязвимой романтики С. М. Широкогорова, Г. Г. Шпета, А. Р. Лурия по поводу этнокультуры» [18, с. 33]. Надо сказать, что в науке, «уязвимы» не только романтика, но и научный прагматизм и утилитаризм. И для объективности в оценке научных теорий и их истории следует ссылаться не на рукописи, якобы спрятанные в столе, а на публикации, имеющие своё время и место. И давать не только критику «метафизических оснований», но и соответствующих методологий как их «побочных продуктов» (К. Поппер).
Ещё раз подчёркнем, что мы не против того, чтобы философы учились у антропологов или этнографов. Тезаурусное (нормативное) закрепление понятий «этнос» и «этничность», к сожалению, отсутствует в «старой» «Философской энциклопедии» (1960–1970), а в «Философском энциклопедическом словаре» (1983) представлены только статьи «Этнометодология» и «Эт-ноцентричность», которые построены на критике соответствующих западных концепций. Хотя в том же «Философском энциклопедическом словаре» (1983) в статьях «Народ», имеющей два варианта – философский и этнологический, и «Нация» понятия «этнос» и «этничность» используются. Всё это, конечно, не делает чести философам, задача которых и состоит в методологическом обобщении и концептуализации достижений специальных наук, так как понятия «этнос» и «этничность», как мы уже отмечали, появились в советской науке ещё задолго до дискуссии начала 70-х годов ХХ века, поднятой Л. Н. Гумилёвым [см.: 4; 5; 8; 9; 20; 21; 22]. Стоит отметить, что социально-антропологическая проблематика в са- мом широком междисциплинарном диапазоне, в том числе и употребление концепта «этничность» (!), присутствует и в работах Б. Ф. Поршнева, начиная с середины 1950-х годов ХХ века [см.: 7; 13; 14].
Здесь нет возможности углубляться в историю отечественной антропологии и формирования этнологического понимания мировой и российской истории. История науки – это призма для осмысления на- стоящего, где этнический модус бытия и культурного многообразия всё настойчивее утверждает себя в социокультурной динамике постсовременности.
Культурно-антропологическая модель исследования и миф об «имперской России»
Этническое бытие – начало мифогенетическое (как в прошлом, так и в настоящем), а кризис этнокультурной идентичности рождает превращённые формы мифа и в первую очередь политическую мифологию [подробнее см.: 9; 10; 11]. Такого рода мифы могут быть продуктивными, проективными и выступать движущей силой цивилизационных изменений, но они же могут быть деструктивными , рождая этнокультурные и социально-политические «химеры», заводящие в тупик субъектов истории. Можно разбираться с социально-экономическими предпосылками гибели СССР, но нельзя отрицать того, что политика М. Горбачева спровоцировала борьбу этнических элит, что и привело к подъёму национализма и национальной (националистической) мифологии как деструктивному фактору, во многом определившему крах советской культурно-цивилизационной системы .
Здесь мы и оказываемся перед необходимостью обратиться к культурно-антропологической эпистемологической модели, в которой центром соединения всех век- торов и круговорота в социальном потоке оказывается конкретная личность. Речь идёт не об абстрактном «мыслящем субъекте» философов или «классовом индивиде» политиков, а о живом человеке, конкретной исторической личности, которой могут быть свойственны причуды и стереотипы, образ жизни, укоренённый в «структурах повседневности» (Ф. Бродель). Причём такого рода модель должна опираться на фи- лософскую антропологию как собственное методологическое «ядро», где человек оказывается не только вписан в определённую политико-экономическую или культурную среду, но оказывается в «плазме» этносов как природно-исторических, «пограничных» образований.
Так у представленного выше методологического поиска обнаруживается конкретно-исторический смысл. Мы исходим из того, что эпистемологические модели в конечном счёте сопрягаются в осмыслении российской культурно-цивилизационной специфики. Только на этом пути можно преодолеть «грехи историцизма», в которых К. Поппер упрекал тех, кто пытался понять процессуальные характеристики истории [12]. Как формационно-цивилизационной, так и культурно-цивилизационной модели присущ универсализм, основанный на примате целого и всеобщего над частным и единичным , что оборачивается в итоге возвышением абстрактного общества над живым человеком , а в реальной жизни господством «закона» над «конкретной ситуацией». Социальная наука XIX–XX веков, ориентированная на постижение законов всемирной истории, с необходимостью пользовалась общими схемами и универсалистскими парадигмами, а они, в свою очередь, оборачивались шаблонами политико-публицистического дискурса и особого рода популистскими мифами.
Здесь нет возможности подробно разбирать механизм рождения популистского мифа в его конструктивном и деструктивном варианте, о чём мы уже подробно писали, анализируя миф о русской идее, миф о возрождении России (православия), а также мифы, связанные с этнокультурной и цивилизационной идентичностью России [см.: 1; 2]. В данном случае речь пойдёт об имперском мифе, который сопровождает нашу историю, поскольку имеет непосредственное отношение к российскому культурно-цивилизационному типу. Каким образом через этот миф выражает себя наша культурно-цивилизационная специфика? Действительно, в наши дни только ленивый не критикует культурный архетип «Москва – третий Рим», как якобы имперский и тоталитарный, который служит религиозным оправданием «имперских амбиций России». Поэтому, по нашему убеждению, демифологизация русской истории и связана с проблемой имперской специфики культурно-цивилизационной системы России.
Империум (власть, контроль и сила власти) – закономерная политическая форма существования культурно-цивилизационных систем: от власти египетских фараонов и империи Александра Македонского до современной «глобалистской либеральной им-периум» США. Империя Александра Македонского и Юлия Цезаря, Ромейская (Византийская) православная империя и империя Чингисидов (Золотая Орда), католическая Священная империя германской нации и Арабские халифаты, Османская империя и Российская империя, Британская империя и Французские имперские республики, имперский Третий рейх и СССР и, наконец, либеральная империя США и социалистический Китай, имперские конфликты эпохи постмодернизма начала нашего столетия – всё это не просто имперские культурно-исторические типы, но и культурно-идеологические проекты глобализации .
Обычно глобализация ассоциируется с транснациональными компаниями, долларом и Голливудом, стандартами западного потребления, зримо представленными в наполнении супермаркетов. В западной и отечественной социальной науке утвердился постулат, а скорее, даже идеологема об уникальности современной глобализации, с ко- торыми человечество столкнулось на рубеже XX–XXI веков. Но если дать философское определение данного феномена, выделяющее его специфическую черту, то глобализацию можно определить как процесс универсализации жизни человека, отдельных государств и народов и всего человечества, целью которого является повышение степеней человеческой свободы и увеличение многообразия человеческого бытия. При таком подходе глобализация как универсализация отвергает всяческую унификацию, господство целого над частью или части над целым, предполагает единство в многообразии и их гармонию. Осознавая провокативный характер предлагаемой трактовки российской культурно-цивилизационной специфики и её теоретического контекста, мы полагаем, что глобализация характеризует социокультурную динамику человечества как минимум в последние 2–2,5 тысячи лет. Столь же закономерной мыслится и имперская форма существования культурно-цивилизационных систем.
В этом культурно-историческом ряду российские имперские формы являются «включённым исключением», так как мы представляем в мире единственную тысячелетнюю цивилизацию, которая прошла через несколько типов имперских трансформаций: а) империя от князя Владимира – империя Древней Руси, преемница Византийско-Ромейской империум и части наследия империи Хазаров; б) существование Руси в формах Золотоордынской империи до начала XIV века; в) империя московских великих князей и кесарей XV – начала XVII веков, павшая от имперского натиска западно-католического имперского нашествия; г) романовская империя от Петра I до Николая II; д) советская империя; ж) новая национально-либеральная имперская трансформация русской цивилизации. Но как рождался в этом контексте имперский миф? И чем отличаются его конструктивная и деструктивная версии?
Как известно, идея «Москва – третий Рим» восходит к игумену Филофею. И, действительно, там, где старец Филофей в своём послании апеллирует к Ветхому Завету, можно узреть типологическую близость рождающейся идеи к иудейскому мессианизму. На наш взгляд, именно этот поворот правящей верхушки Московского царства и части церковных иерархов к политическо- му ветхозаветному мессианизму на многие столетия породил превратный образ русской цивилизации как имперско-авторитарной. И от этого не уйти: идея «Москва – третий Рим» в культурно-историческом бытии России показала ту опасность, от которой в своё время предостерегал в «Слове о Законе и Благодати» митрополит Илларион, – опасности обращения от спасительной Благодати Христа к обманчивому мессианизму иудейского Закона.
Сложность имперского мифа связана с тем, что так называемая русская идея всегда содержала в себе концепцию «Москва – третий Рим» ещё и в другой, а именно – в народно-религиозной ипостаси – ипостаси Святой Руси , которую не смогли истребить ни царь Иоанн IV Грозный, ни император Петр I, который полагал возможным насильственное внедрение в России протестантизма по совету иноземцев.
Превратная версия имперского мифа основана на его односторонней политической трактовке, в отличие от той православной ипостаси концепции «Москва – третий Рим», суть которой в универсальной, всечеловеческой открытости русской цивилизации всем народам и национальным культурам перед вторым пришествием Христа – Спасителя человечества. Именно эта идея вызвала небывалый расцвет русской
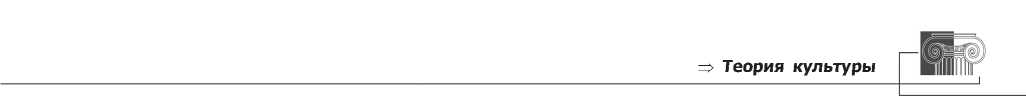
национальной культуры в XIX столетии. Именно это имели в виду и Ф. М. Достоевский, и В. С. Соловьёв, когда утверждали грядущую всечеловеческую роль России и православия.
При таком рассмотрении становится очевидным, что и славянофилы, и западники оказались далеки от объективной оценки русской цивилизации, и прежде всего взаимосвязи российской государственности и русского православия, их глубинного единства. Россия всегда развивалась в культурно-цивилизационном диалоге с Европой, но до тех пор, пока не затрагивали её этнокультурную, цивилизационную и религиозную самобытность, пытаясь внедрить чуждую культурно-цивилизационную ориентацию. Вот тогда-то в ответ мы и сворачивали на «псевдосамобытную обочину».
Там и тогда, где и когда наше имперское вхождение в культурно-исторические типы глобализации несло простому человеку увеличение степеней свободы, а обществу – универсализацию, там империум-власть выполняла свою историческую, всечеловеческую миссию – демонстрировала примеры экономического успеха, политического народовластия, давала высочайшие образцы духовного творчества. А все трагедии и взлёты российской империум были связаны с трагедиями веры, с конфликтами «империум кесаря» и «империум Бога», когда кесарь на себя примерял Выс- ший, Небесный Империум. Тогда и появлялась «тайна власти» (arcana imperii), когда власть в прямом смысле стремилась стать арканом и удавкой на живом теле российской культурно-цивилизационной системы. Кто следующий «заарканит» русскую цивилизацию?
***
Сопряжение формационно-эволюционной, культурно-цивилизационной, этнологической моделей на почве антропологического понимания позволяет оценить уникальность культурно-цивилизационного развития России и специфику её культурноисторических имперских форм.
Указанное понимание позволяет последовательно развивать проект открытого, многополюсного, полиэтничного человечества , в противоположность «мультикультурализму» на основе «гражданской нации». Глобальные экономические, политические и иные связи не могут стереть не только этнокультурную и культурно-цивилизационную идентичность народов, но и очистить до «голой доски» самосознание простых людей. И развенчивая различные социально-политические мифы (в том числе имперские), важно учитывать, что имперские формы культурно-цивилизационного бытия стран, народов и государств играли конструктивную роль в их конкретной, не выдуманной учёными и идеологами истории.
Список литературы Культурно-цивилизационная специфика России: модели понимания и прогнозы
- Бабинцев В. П., Римский В. П. Матрица русофобии и ментально-антропологические типы русской интеллигенции // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2013. № 16 (159). Вып. 25. С. 16-28.
- Бабинцев В. П., Римский В. П. Матрица русофобии в самосознании русской интеллигенции // Проблемы российского самосознания: патриотизм, гражданственность и отечественная культура: к 200-летию со дня рождения Н. В. Станкевича: материалы 10-й Международной научной конференции, 3 октября 2013 г., Москва, 8-10 октября 2013 г., Белгород / РАН, Ин-т философии, НИУ БелГУ; под общ. ред. С. А. Никольского. Москва; Белгород: ИД Белгород, 2013. С. 31-45.
- Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / [пер. с фр. А. Т. Бикбова]. Москва: Праксис, 2003. 268, [1] с.
- Гумилёв Л. Н. О термине «этнос» // Доклады отделений и комиссий Географического общества СССР. Вып. 3.: Этнография. Ленинград, 1967.
- Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1989.