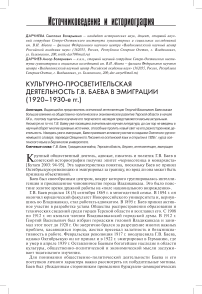Культурно-просветительская деятельность Г.В. Баева в эмиграции (1920-1930-е гг.)
Автор: Дарчиева Светлана Валерьевна, Дарчиев Анзор Валериевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 6, 2023 года.
Бесплатный доступ
Выдающийся представитель осетинской интеллигенции Георгий Васильевич Баев оказал большое влияние на общественно-политическое и экономическое развитие Терской области в начале XX в., поэтому тщательное изучение его творческого наследия представляется весьма актуальным. Несмотря на то что Г.В. Баеву уже посвящена значительная научная литература, до сих пор не введены в научный оборот многие архивные источники, способные пролить новый свет на его разностороннюю деятельность. Находясь уже в эмиграции, Баев принимает активное участие в создании Осетинско-русско-немецкого словаря, переводе Священного Писания на осетинский язык и открытии в 1926 г. курса осетинского языка в Берлинском университете.
Г.в. баев, гражданская война, терская область, берлин, интеллигенция, эмиграция
Короткий адрес: https://sciup.org/170200699
IDR: 170200699 | DOI: 10.31171/vlast.v31i6.9921
Текст научной статьи Культурно-просветительская деятельность Г.В. Баева в эмиграции (1920-1930-е гг.)
К рупный общественный деятель, адвокат, писатель и политик Г.В. Баев в советской историографии получил эпитет «черносотенца и монархиста» [Бутаев 2003: 94-95]. Эта характеристика понятна, поскольку Баев не принял Октябрьскую революцию и эмигрировал за границу, но вряд ли она может быть признана объективной.
Баев был своеобразным центром, вокруг которого группировалась интеллигенция и просвещенное чиновничество города Владикавказа. Это было поистине золотое время дружной работы на «поле национального возрождения».
Г.В. Баев родился 18 (5) сентября 1869 г. в многодетной семье. В 1894 г. он окончил юридический факультет Новороссийского университета и, вернувшись во Владикавказ, стал работать адвокатом. В 1895 г. Баев принял активное участие в разработке устава Общества распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области и возглавил его. С 1908 по 1912 г. он являлся членом Владикавказской городской думы. В 1912 г. Георгий Васильевич был избран городским головой Владикавказа и занимал этот пост до 1920 г. Он энергично брался за разрешение многих важных проблем, касающихся города, жестко пресекал халатность и безынициативность в работе. Февральская революция 1917 г. воодушевила Г.В. Баева, однако Октябрьскую он не принял и в 1922 г. эмигрировал в Германию, где и умер в апреле 1939 г. Оставленное Баевым богатейшее наследие в области культуры, общественно-политической и экономической мысли заслуживает тщательного изучения.
Для понимания общественно-политической деятельности Баева и его поступков личного характера важно рассмотреть их побудительные мотивы. Баев был убежденным сторонником проведения буржуазно-демократических реформ, в которых он видел единственное средство построения справедливого конституционного государства. Тема земского самоуправления на Кавказе занимает видное место в его трудах и общественной деятельности. Баев считал, что только земство может обеспечить экономическое процветание и политическую стабильность в Терской области. Будущее северокавказских народов он связывал с развитием самоуправления в рамках единой конституционной России. В центре внимания деятельного и энергичного Баева были вопросы экономики, государственного устройства, политики, культуры и быта. Трудно переоценить вклад Г.В. Баева в развитие школьного образования и книгопечатания; его стараниями были открыты первые сельские библиотеки, клубы и кинотеатр.
1917 г. оказался переломным в истории России и в судьбе миллионов ее граждан. В эпоху революционных катаклизмов Г.В. Баев выступил с программой гражданского мира, призывая заботиться прежде всего о жизни людей и будущем народа, но в ответ подвергся шельмованию и политическим преследованиям. Баев вынужден был покинуть Осетию. Уже находясь в эмиграции, он вспоминал о том времени: «Ужасные последствия гражданской войны на Северном Кавказе, разрушение нашего города и моей родины, потеря большого состояния нашей семьи, национализация нашего недвижимого имущества, моей библиотеки и богатых архивов, побудили меня, совершенно беспристрастного деятеля культуры, в начале 1920 года переселиться в Тифлис, в тогда еще независимую Грузию»1. В ходе Гражданской войны в 1919 г. был жестоко убит белогвардейцами его брат Чермен, а двое других – Дзандар в 1932 г. и Андрей в 1937 г. – были расстреляны.
В Тифлисе Баев не прекращает активную деятельность: преподает родной язык в осетинской школе, занимается переводом Священного Писания на осетинский язык, работает в библиотеках, музеях, благотворительных организациях и даже пытается организовать издание книг на родном языке для многочисленной осетинской диаспоры [Дарчиева, Дарчиев 2019: 173]. После установления советской власти в Грузии, в 1921 г. Баеву пришлось покинуть Тифлис и эмигрировать в Константинополь, где он был избран членом Русской академической группы. Феномен российской эмиграции, особенно первой волны, состоял в том, что ее представители не интегрировались в те общества, которые предоставили им политическое убежище. Свое пребывание за границей они рассматривали как временное, хотя подавляющее большинство эмигрантов так никогда и не вернулись на родину. За границей (в Финляндии, Германии, Румынии, Франции, США) были созданы многочисленные организации: Русский комитет, Русское политическое совещание, Лига возрождения свободной России, Терский национальный комитет во Франции, Кавказское куначество в Чехословакии и др. Первая Русская академическая группа была создана в Берлине в начальный период эмиграции. Она ставила своей целью развитие российской академической науки, поддержание связи между учеными-эмигрантами и учебными заведениями российского зарубежья, а также организацию взаимопомощи. Академическая группа в Праге возникла в 1921 г. и просуществовала до 1945 г. [Квакин, Мухачев 2015: 29-33]. Из Константинополя Баев собирался переехать в Прагу по приглашению Союза горцев Кавказа. Организация «Союз горцев Кавказа» ставила своей целью консолидировать всех северокавказских эмигрантов в Чехословакии. Так как в Праге находился Русский университет, Чешская земледельческая школа и другие учебные заведения, в которых обучались выходцы из Кавказа, правление Союза горцев считало своим долгом создать все условия для духовного и культурного развития горской молодежи. Для этого правление поставило такие задачи, как сбор исторической, научной, научно-популярной литературы о горцах Кавказа; исследовательская работа в европейских архивах по сбору материала в области малоисследованного горского прошлого; перевод на европейские языки наиболее интересных этнографических сведений о народах Кавказа и др. Правление Союза горцев неоднократно обращалось к Баеву, надеясь на сотрудничество, и в 1924 г. предложило издать труд Баева «Библиография горских народов Кавказа» за свой счет1. В 1933 г. член Осетинского общества в Париже А. Абациев пригласил Баева выступить перед земляками с лекциями и «посетить сокровища западной культуры, которыми Париж так богат»2.
Однако в Прагу Баев не поехал: изменив маршрут, в 1922 г. он отравляется в Германию. Возникает вопрос, почему Баев не принял предложение Союза горцев и не поехал в Париж или Белград, где, кстати, обосновался его брат Измаил. Можно только предположить, что Георгий Васильевич лелеял надежду на возвращение в любимую Осетию.
Баев был человеком разносторонних интересов, прекрасно образованным, посвятившим много лет изучению трудов немецких ученых по осетинскому языкознанию, поэтому по приезде в Берлин он занялся научной работой. В августе 1922 г. Баев становится редактором коммерческого отдела русского ежемесячного журнала «Сполохи», издававшегося в издательстве Е. Гутнова. В этом издательстве Баев начинает публикацию цикла критико-биографических статей, посвященных выдающимся представителям осетинской литературы и общественной мысли – К.Л. Хетагурову, А.Б. Кубалову, Г.А. Цаголову, Ц.А. Амбалову и др. Он подготовил и издал сборник стихов, осетинских сказок, загадок, пословиц, переиздал сборник стихов Хетагурова «Ирон фæндыр» («Осетинская лира»), поэму «Алгузиани» в переводе с грузинского на русский язык с обширным введением, посвятив ее памяти академика Вс.Ф. Миллера [Дарчиева, Дарчиев 2019: 173-174]. В мае 1923 г. в Берлине при содействии Британского библейского общества были изданы на осетинском языке четыре «Евангелия» в переводе Георгия Васильевича3. Выполненные Баевым переводы имели большое значение для распространения христианства среди осетин. В 1928 г. тем же обществом была издана «Книга пророка Даниила», а также опубликованы иллюстрированное издание перевода «Вильгельма Телля» Шиллера и ряд других книг и народных календарей.
Георгий Васильевич вновь приступает к работе над созданием Осетино-русско-немецкого словаря В.Ф. Миллера (эта работа, к сожалению, прекратилась в 1913 г. после смерти Миллера). Именно благодаря инициативе Баева Академия наук СССР все же решила издать словарь, и в начале 1927 г. выходит первый том, через два года – второй. Осетино-русско-немецкий словарь Вс.Ф. Миллера в 3 томах представляет собой уникальный труд, содержащий не только слова, но и некоторые устойчивые словосочетания из осетинской этнографии. Важно отметить, что без активной помощи осетинской интелли- генции, прежде всего Г.В. Баева, академик Миллер не смог бы решить поставленные перед собой задачи, что признавал и сам ученый [Миллер 2008: 357538].
В 1926 г. усилиями Баева при Берлинском университета им. Гумбольдта был открыт курс лекций по осетинскому языку и литературе, который сам он назвал «осетинской доцентурой» ( Ossetische Dozentur ). Баев проработал преподавателем этого курса с 1 мая 1926 г. до самой своей смерти 24 апреля 1939 г. Основание «осетинской доцентуры» Баев считает событием огромного культурного значения, способствовавшим пробуждению интереса к осетинскому языку среди ученых Европы.
Деятельная и творческая натура Баева на этом не останавливается, и он пишет монографию об академике Андреасе Шегрене (1797–1855), основателе осетиноведения и издателе Псалтири на осетинском языке (1848). Баев начал сбор биографических сведений о Шегрене задолго до эмиграции, еще находясь на посту городского головы Владикавказа. В письме секретарю Императорской академии наук Баев спрашивает, осталось ли у Шегрена потомство и где оно проживает, а также просил выслать ему портрет академика [Шегрен 1998: 153154].
Собранные Баевым материалы в области культуры, общественно-политической и экономической мысли Кавказа представляют историко-литературную ценность и достойны пристального внимания и изучения.
Список литературы Культурно-просветительская деятельность Г.В. Баева в эмиграции (1920-1930-е гг.)
- Бутаев К.С. 2003. Избранное (сост. Г.И. Цибиров, К.Т. Бутаев). Владикавказ: Иристон. 446 с.
- Дарчиева С.В., Дарчиев А.В. 2019. Автобиографический очерк Г.В. Баева "Из моей жизни". - Известия СОИГСИ. № 34(73). С. 168-187. DOI: 10.23671/VNC.2019.73.43116 EDN: BIPWIC
- Квакин А.В., Мухачев Ю.В. 2015. Русская академическая группа (Russian Academic Group). - Русское зарубежье: история и современность: сборник статей. М.: Изд-во ИНИОН РАН. Вып. 4. 249 с.
- Миллер В.Ф. 2008. Фольклор народов Северного Кавказа: тексты, исследования. М.: Наука. 997 с. EDN: WKHMIP
- Шегрен А.М. 1998. Осетинские исследования. Владикавказ: Изд-во СОГУ. 172 с.