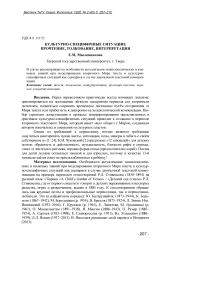Культурно-специфичные ситуации: прочтение, толкование, интерпретация
Автор: Масленникова Евгения Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности актуализации энциклопедических и языковых знаний при моделировании вторичного Мира текста и культурноспецифичных ситуаций как сценариев в случае двуязычной текстовой коммуникации.
Текст, понимание, интерпретация, проекция текста, перевод, концептуализация
Короткий адрес: https://sciup.org/146281680
IDR: 146281680 | УДК: 811.111'23
Текст научной статьи Культурно-специфичные ситуации: прочтение, толкование, интерпретация
Введение. Перед переводчиком практически всегда возникает дилемма: ориентироваться на достижение лёгкости восприятия перевода его вторичным читателем, попытаться сохранить временную дистанцию путём отстранения от Мира текста или прибегнуть к диахронно-культурологической компенсации. Выбор стратегии доместикации в процессе интерпретирования представленных в оригинале культурно-специфических ситуаций приводит к созданию в переводе вторичного текстового Мира, который имеет мало общего с Миром, созданным автором изначально, и смешению культурных пластов.
Одним из требований к переводчику поэзии является требование «научиться имитировать чужие жесты, интонации, позы, манеры и забыть о своём собственном я» [1: 24]. К.И. Чуковский [2] предложил «12 заповедей» для детских поэтов: образность и действенность, музыкальность, близости рифм в строках, отказ от эпитетов и ритмика, игровая форма стиха (предпочтителен хорей). Поэзия для детей должна оставаться таковой и для взрослых, поэтому в качестве 13-й заповеди даётся совет не приспосабливаться к ребёнку!
Материал исследования. Особенности актуализации энциклопедических и языковых знаний при моделировании вторичного Мира текста и культурно-специфичных ситуаций как сценариев в случае двуязычной текстовой коммуникации на примере переводов стихотворений Р.Л. Стивенсона (1850–1894) на русский язык. Сборник «A Child’s Garden of Verses» / «Детский сад стихов» Р.Л. Стивенсона, где от первого лица поэт говорит о детских переживаниях и нехитрых радостях, играх и развлечениях, вышел в 1885 году. К стихотворениям обращались как крупные поэты и профессиональные переводчики, так и переводчики-любители. Это (в алфавитном порядке): Ю. Балтрушайтис (1873–1944), К. Бальмонт (1867–1942), М. Бородицкая (р. 1954), В. Брюсов (1873–1924), Л. Зиман, Игн. Ивановский (1932–2016), Г. Кружков (р. 1945), Е. Липатова, М. Лукашкина (р.
1961), О. Мандельштам (1891–1938), Я. Мексин (1886–1943), О. Румер (1883– 1954), А. Сергеев (1933–1998), Е. Славороссова (р. 1951), Вл. Ходасевич (1886–
1939), Л.Л. Яхнин (1937–2015). В. Николаев размещает свой перевод в Интернете
Дети, няня и мама. Сборник открывает посвящение няне ( nurse ) поэта – Alison Cunningham, которую он называет своей второй мамой и первой женой ( My second Mother, my first Wife, / The angel of my infant life ), скрасившей дни детства болезненного мальчика ( sad and happy days of yore ). В викторианскую эпоху няни действительно были ближе к детям, чем их родители. Посвящение няне ( nurse ) в переводе М. Лукашкиной оказался переадресованным читателю ( To Any Reader ): поскольку в большинстве семей её потенциальных читателей не имеется няни с проживанием, поэтому вместо гуляющей с ребёнком няни появилась мама , следящая из окна за сыном ( Как мать следит порой из окна / За сыном, что бродит в саду дотемна ). Нянюшка ( nursie ) из «My Shadow» становится мамой , за чью юбку держится ребёнок (М. Лукашкина). В стихотворении «Winter time» рассказывается о сборах на зимнюю прогулку. Викторианского ребёнка одевала няня ( When to go out, my nurse doth wrap / Me in my comforter and cap ), а в переводах – мама (Игн. Ивановский). При этом переводчик отражает характерную манеру укутывать детей, которую можно видеть на бытовых картинах середины XX века: Наденет мама шапку мне / И шарф завяжет на спине .
В заключительной главе книги Л. Кэрролла «Alice’s Adventures in Won-derland» сестра будит Алису к вечернему чаю ( It WAS a curious dream, dear, certainly: but now run in to your tea; it's getting late ). С наступлением сумерек ребёнка из стихотворения Р.Л. Стивенсона «My Kingdom» с прогулки к чаю домой зовёт мама ( At last I heard my mother call / Out from the house at evenfall, / To call me home to tea ), но домой его ведёт няня . У Л. Яхнина мама лично находит в саду ребёнка ( Но мама здесь меня нашла , / И подошла, и увела . / Сказала – чай готов ). Меняется восприятие дома: для героя комнаты кажутся большими и холодными ( How great and cool the rooms! ). В переводах дом тёмный и большой , где комнаты пусты (Л. Яхнин), он пуст и хмур и скукою гнетёт (Я. Мексин). В таком доме нет тепла вокруг (В. Николаев).
Архетип матери, ожидающей детей дома, реализуется во многих переводах стихотворений: даже, если мама не упоминается в них. Если наигравшиеся дети («Marching Song») собираются домой ( Let’s go home again ), у М. Лу-кашкиной они гурьбою побежали к мамам – по домам .
Семья. Общение вне семейного круга не поощрялось и не поддерживалось («The Land of Nod»). Для хозяев дома день начинался с поданного завтрака ( From breakfast on through all the day ), а не с рассвета (Ю. Балтрушайтис). Меняется состав упоминаемых в стихотворениях лиц, воссоздавая иную модель семьи. Появляются новые члены: к единственному ребёнку («Shadow March») добавляется сопящий за спиной братишка (Е. Липатова). В переводе «The Moon» вместо мирно спящих до утра цветов и детей (метафора дети – цветы) появляется целая семья, где есть и няня, и мама, и брат, и сестра (М. Лукашкина).
Воспитание детей. Детей воспитывались в строгости. Поэт перечисляет черты хороших детей («Good and Bad Children»): они ходят степенно ( You must try to walk sedately ), остаются спокойными ( You must still be bright and quiet ) и честными, сохраняют невинность ( Innocent and honest children ) и проявляют добронравие ( Happy hearts and happy faces ), играют в саду ( Happy play in grassy places ). Любое проявление эмоций не поощрялось: из жестоких детей - 208 -
( cruel children ) и плакс ( crying babies ) вырастают только дурачки ( geese ) и простаки ( gabies ). М. Лукашкина пропагандирует обливания из шайки . Кроме этого, в перевод вводится иной зооморфный образ: крикливые , ленивые и болтливые дети превратятся в поросят . Считалось, что большое количество игрушек испортит ребёнка, поэтому в семьях среднего класса не поощрялось иметь их много («System»). В переводе плохого ребёнка отличает не наличие игрушек, а то, что он их портит без конца (Л. Зиман). Предполагалось, что детей нужно видеть, но не слышать («Whole Duty of Children»). Мысль о непослушании была чужда. В гости детей не водили. Ребёнок не мог заговорить первым. Г. Кружков отражает современные представления о воспитанных детях: И не шуметь / (И не вопить!), / В гостях не забывать о «здрасьте» / И слушаться, / Хотя б отчасти .
Игры. Одним из нехитрых музыкальных инструментов, которые можно изготовить из подручных материалов, является губная гармошка, сделанная из обёрнутой бумагой расчёски. Именно такой инструмент ( Bring the comb and play upon it! ) вместе с барабаном ( the drum ) призывает маршем идти в поход («Marching Song»). Р.Л. Стивенсон упоминает военные термины и лексику, связанную с армейской жизнью: lead the rear ‘замыкать колонну’, feet in time ‘идти в ногу’, marital manner ‘поведение на военном смотре’, double-quick ‘беглым шагом’, banner ‘знамя’, fame ‘слава’, pillage ‘грабёж, мародёрство; добыча’.
Судя по данным из «Национального корпуса русского языка» (ruscorpora.ru) и программы-поисковика «Google Ngram Viewer» (http://books.google.com/ngrams) существительное гребёнка ‘расчёска с редкими зубьями’ практически вышло из употребления. Пики частотности его употребления приходятся на 1920–1950-е годы. Что касается играть на гребёнке , то популярность такого способа извлечения звуков совпадает с годами юности Игн. Ивановского. М. Лукашкина предлагает бить в дно кастрюли ложками, громко петь ( Вилли, громче пой! ), а у В. Николаева Вилли шапочкой стреляет . Роль знамени в игре выполняет привязанная к палке столовая салфетка ( the napkin, like a banner ). Схожий эпизод с салфеткой встречается в романе А. Дюма «Три мушкетёра». Поскольку сейчас тканевые салфетки не используются обычно за столом, то В. Николаев делает её платком , а М. Лукашкина убирает упоминание о знамени .
Забытый в траве и затем найденный игрушечный солдатик из свинца облачен в алый мундир («The Dumb Soldier»): солдаты английской регулярной армии носили алые мундиры. Игн. Ивановский ориентируется на универсальный прецедентный текст – на сказку Г.-Х. Андерсона «Стойкий оловянный солдатик» (1838), чей главный герой стал символом верности и непоколебимости.
Дом и интерьер. Представители среднего класса имели, как правило, непарадную гостиную ( parlour ), где обычно собирались члены семьи («Summer Sun», «Escape at Bed-time»). По причине несколько иной планировки обычной квартиры эта реалия в переводах отсутствует, она может стать обычной комнатой (А. Сергеев) или окном (Игн. Ивановский, Е. Липатова, М. Лукашкина). Решётки ( bars ) устанавливали на окна детской, которая в переводах стихотворения «Escape at Bed-time» стала сараем (М. Лукашкина) и кухней (А. Сергеев).
Камин в гостиной («Good night»), вокруг которого по вечерам собираются близкие ( pleasant party round the fire ), не является типичной частью интерьера в большинстве современных семей, поэтому он превращается в чайник на огне (Е. Липатова), что переносит события на кухню. Камин («Armies in Fire») становится печкой (Е. Липатова, Ви. Николаев). Крыши домов крыли черепицей ( tiles ), а не тёсом (Игн. Ивановский).
Питание. Викторианские домохозяйки составляли отдельные меню на день для взрослых членов семей и для детей. Детям часто не разрешалось получать никакой еды после последнего приёма пищи, из-за чего те могли оставаться голодными, поэтому стихотворение «Good and Bad Children» призывает довольствоваться простой едой ( simple diet ). М. Лукашкина предлагает морковки-кочерыжки , рыбий жир глотать и пить парное молоко , отказавшись от пряников-коврижек , т.е. переориентирует текст на современные нормы детского питания. Обязательным в меню было мясо: сравнивая свой рацион с тем, что едят в других странах, ребёнок («Foreign Children») упоминает о том, что он правильно питается ( I am fed on proper meat ). Переводы отражают вкусовые привычки и предпочтения эпох их создания: у О. Мандельштама герой по утрам пьёт молоко из кружки , а у М. Лукашкиной питается бутербродами ( Мне милее бутерброд ). В воспоминаниях викторианцев упоминается чувство голода, испытываемое ими в детстве. Неудивительно, что ребёнок в «Foreign Lands» мечтает о волшебной стране, где детей кормят обедом в пять часов ( Where all the children dine at five ), а игрушки оживают ( And all the playthings come alive ). В переводах в волшебной стране кормят вишнями ребят (Игн. Ивановский), нет печалей и забот и каждый день как Новый год (Е. Липатова), дают торжественный салют (М. Лукашкина). Детей отправляли спать после вечернего чая без четверти восемь: чай ( at eve I rise form tea ) становится своеобразным отчётом времени («The Sun’s Travel»). В переводах это ночь : сплю и полночь бьёт (Игн. Ивановский), на ночь я раздет (О. Румер).
Одежда и мода. Женские юбки той эпохи имели длинный шлейф. Поэт описывает шуршащие при ходьбе юбки тёти («Auntie’s Skirts»). Соответственно, юбки шуршали и по траве («The Winds»), но, согласно современной моде, в переводе юбки шелестят над травой (В. Николаев). Маленькие мальчики носили матросские костюмчики («My Bed is a Boat») или одежду, напоминающую костюм горцев, отсюда упоминаемый в «Marching Song» головной убор highland bonnet ( Willie cocks his highland bonnet ), т.е. шерстяной берет с помпоном на макушке.
Ландшафт. Вместо живой изгороди the hedges («Night and Day») появляется плетень (Игн. Ивановский). Представленный в стихотворениях ландшафт обычно включает привычные для сельской Англии виды: река, долина, холмы, лес. Одним из таких предметов пейзажа была мельница («Keep-sake mill», «Where Go the Boats?», «From a Railway Carriage» и «Block City»), которая, однако, не является типичным элементом российских пейзажей, поэтому современные переводчики часто пропускают эту реалию. Так, М. Лукашкина вместо стоящей на реке мельницы перечисляет огни деревень, городов .
Флора и фауна. Мифологема несущей жизнь реки является типичной: по реке начинают путешествие уставшие от городской жизни герои Дж. К. Джерома (1859–1927) в «Three Men in a Boat» (1900), речная прогулка привела - 210 - к появлению одной из самых популярных в мире книг – «Alice’s Adventures in Wonderland» (1865) Л. Кэрролла (1832–1898), на реке разворачиваются события из «The Wind in the Willows» (1908) К. Грэма (1859–1932). В стихотворении «Looking-glass River» описывается прибрежная жизнь: куницы ныряют в воду (dipping marten) и плещется форель (plumping trout). Река становится ручьём, где водятся окуни (М. Лукашкина), а за рыбой охотятся чайки (Игн. Ивановский).
Во время прогулки няня называет растения («The Flowers»). Каждое название содержит наивную этимологию: Gardener’s garters – это канареечник тростниковидный (буквально ‘подвязки садовника’), Shepherd’s purse – (буквально) пастушья сумка, Bachelor’s button ‘лютик’, Lady’s smock – сердечник луговой (буквально ‘дамское платье’). Неудивительно, что ребёнок начинает видеть за названиями имена фей, образуя по аналогии Lady Hollyhock (буквально ‘леди Алтей’). Переводчики ориентируются на растения средней полосы европейской части России: мята , лютики , душица (Е. Липатова). Феи строят дома из веток ( fairies weave a house ), а в переводе – дома из лепестков (М. Лукашкина). В переводах феи оказываются легкомысленными: они танцуют в лепестковых сарафанах на полянах (Е. Липатова) и имеют гамаки из паутинки (М. Лукашкина). Е. Липатова вводит обычную для средней полосы ромашку ( И под ветками ромашки / Ткут из воздуха рубашки ).
Национальный фольклор. Волшебные существа из мифологии Западной Европы феи не являются типичными для отечественного фольклора. Когда ребёнок («From Railway Carriage») видит из окна вагона поезда пейзажи, то он сравнивает быстроту движения со скоростью полёта фей и ведьм ( Faster than fairies , faster than witches ). В советском переводе Игн. Ивановского все сверхъестественные существа отсутствуют, М. Лукашкина оставляет только ведьм ( Ведьмы по небу летящей быстрее ), также имеющихся в славянских народных поверьях. Идущему спать ребёнку («Shadow March») кажется, что он окружён привидениями и домовыми ( With the breath of the Bogies in my hair ). Словом Bogies называли существа, пугающие непослушных детей (ср. в русской народной культуре – бука ). «Женские» переводы не упоминают духов, но усиливают детский страх: А сердце стучит сильней и сильней, / И волосы дыбом встают / При виде зловещих косматых теней <...> Кривые, страшные тени детей (М. Лукашкина), Как бубен грохочет сердечко в груди <...> Лохматые Тени идут впереди <...> Кривая и страшная Тень <...> Идут злые Тени, считая ступени (Е. Липатова).
Если в «Winter» приход зимы связывается с онемевшими от холода пальцами рук ( tingling thumbs ), то Игн. Ивановский исходит из рифмующейся пары слов, когда первое слово задаёт подтверждаемое вторым словом в паре ожидание и влечёт за собой легкоузнаваемый образ. При этом рифмующаяся пара слов может образовывать символику образов: Выпал снег, пришёл мороз. / Это значит: красный нос .
Доместикация. Отталкиваясь от описания коровы бело-рыжего окраса (red and white) из стихотворения «The Cow», О.Б. Румер даёт ей ласкательное имя – Бурёнушка. Мальчик из стихотворения «Where Go the Boats?» представляет, что игрушечные кораблики из листьев преодолеют мили пути (hundred miles or more). К. Бальмонт заменяет меру измерение дистанции на привычные для «своего» читателя – сто вёрст.
Контекст и выбор слов. Родиной поэта была Шотландия. В стихотворении «Marching Song» упоминается реалия – головной убор highland bonnet ( Willie cocks his highland bonnet ). Стога сена («The Hayloft») представляются горами, а себя дети называют mountaineers : слово допускает два толкования – это ‘горцы’ (Игн. Ивановский, В. Николаев) или ‘альпинисты’ (Е. Липатова), но если горцы живут в горах, то альпинисты идут в горы. Подобные неявные отсылки к Шотландии становятся национально-специфическими маркерами личности автора.
В принципе переводы детских стихотворений Р.Л. Стивенсона соответствуют критериям, о которых пишет Л. Венути [3]: беглость чтения, лёгкость восприятия и читабельность. Однако практически все переводчики отказываются от передачи национально-специфичных ситуаций. Подобные замены приводят к тому, что формируется иная концептуальная модель Мира текста. Исходная модель Мира текста может даже значительно видоизменяется, особенно в случае наложения конструктов контактирующих культур друг на друга.
Выводы. Переводчику детской литературы требуется преодолеть не только временной барьер, но и отразить этнокультурные феномены, получающие определённые вербальные и невербальные характеристики. Перевод, несмотря на привнесённые переводчиком личностные смыслы, должен сохранять ту организацию Мира текста, которая не противоречила бы дискурсивным ожиданиям принимающей аудитории. Возрастает роль не только собственно языковых знаний, но и энциклопедических. Степень адаптируемости текста относительно принимающей культурной среды, где сосуществуют переводчик и «его» читатель, определяется текущим моментом текстовой коммуникации.
Список литературы Культурно-специфичные ситуации: прочтение, толкование, интерпретация
- Чуковский К. Принципы художественного перевода // Искусство перевода. Л.: АКАДЕМИЯ, 1930. С. 1-86.
- Чуковский К.И. От двух до пяти. СПб.: Лимбус Пресс, 2000. 464 с.
- Venuti, L. The Translator's Invisibility: A History of Translation. London; NewYork: Routledge, 1995. 353 p.