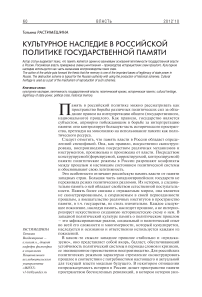Культурное наследие в российской политике государственной памяти
Автор: Растимешина Татьяна Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 10, 2012 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи выдвигает тезис, что память является одним из важнейших оснований легитимности государственной власти в России. Российская власть привержена схеме уничтожения - производства историцистских схем прошлого. Культурное наследие используется как часть механизма воспроизводства таких схем.
Культурное наследие, легитимность государственной власти, политический кризис, историческая память
Короткий адрес: https://sciup.org/170166118
IDR: 170166118
Текст научной статьи Культурное наследие в российской политике государственной памяти
П амять в российской политике можно рассматривать как пространство борьбы различных политических сил за обладание правом на интерпретацию общего (государственного, национального) прошлого. Как правило, государство является субъектом, априорно побеждающим в борьбе за интерпретацию памяти: оно контролирует большую часть исторического пространства, претендуя на монополию на использование памяти как политического ресурса.
Следует отметить, что память власти в России обладает определенной спецификой. Она, как правило, искусственно сконструирована, воспроизводима посредством различных механизмов и инструментов, произвольна и производна от власти. Посредством конструируемой (формируемой, корректируемой, контролируемой) памяти политические режимы в России разрешают конфликты между прошлым и настоящим состоянием политической системы и обосновывают свою легитимность.
Эти особенности отличают российскую память власти от памяти западных стран. Большая часть западноевропейских государств не переживала резких политических разломов. Их история, а следовательно память о ней обладает свойством естественной поступательности. Память более связана с отражаемым миром, она является не сконструированным, а сохраняемым в своей первозданности прошлым, а вмешательство различных институтов в пространство памяти, в т.ч. государства, не столь значительно. Каждое следующее поколение, наследуя память, наследует прошлое, а не интерио-ризирует искусственно созданную историцистскую схему о нем. В западной политической культуре память о политическом прошлом – это зафиксированные реалии, социальный и политический опыт во всей его сложности и многомерности, который кумулируется, наследуется и осознанно и ответственно используется каждым из поколений.
В каком-то смысле западное прошлое стабильно и «предсказуемо», оно представляет собой якорь, балласт, обеспечивающий устойчивость политической системы в периоды сломов и кризисов, ее эволюционное преемственное воспроизводство. Для российских политических режимов характерно стремление сконструировать прошлое в соответствии с потребностями настоящего и актуальной для текущей власти моделью будущего. В некотором отношении непредсказуемость истории в России делает пространство памяти пространством бесчисленных революций, в котором история уни- чтожается, происходит освобождение от груза прошлого, порой – до предела беспамятства, расчищается пространство для нового строительства, после чего начинается конструирование нового прошлого. Если европейцы осваивают и присваивают прошлое, то российская власть привержена схеме уничтожения – производства. В некотором смысле каждому новому режиму в России нужно новое прошлое. В результате память в российской системе власти замещается и подменяется различными историцистскими схемами. Они могут быть в большей или меньшей степени цельными и проработанными. Однако такие схемы производятся и предлагаются нации, реконструируются, уничтожаются и перестраиваются в соответствии с потребностями власти в настоящем. Только в ХХ в. российская власть трижды «порывала» с прошлым, созданным предшествующим режимом, и конструировала новое.
Вместе с тем российская власть испытывает потребность в прошлом, поскольку нуждается в том, чтобы быть встроенной в историческое время, эпоху, в идеале – в вечность. Как точно отмечает Т. Нобль, «правящая группа всегда озабочена, прежде всего, своим увековечиванием, удержанием собственных привилегий и, что самое главное, своей продолженностью во власти»1. Для решения такой задачи власть испытывает потребность рассматривать свой образ в его проекции на прошлое и находить конструктивные совпадения. Элита заинтересована в построении проекции таким образом, чтобы образ настоящей власти оказывался в достаточной (для обоснования ее легитимности) степени соответствующим проверенным на прочность и эффективность моделям власти исторического прошлого. Повторяемость ситуаций и образов в российской политической культуре принято интерпретировать как стабильность и гармонию.
Соответственно, память является одним из важнейших оснований легитимно -сти государственной власти в России. Политическая элита, функционирующая в российской государствоцентричной политической системе, нацелена на встраивание своего образа во временной континуум, оправдание своих властных позиций сходными моделями в прошлом. Непрерывность властного континуума обеспечивает воспроизводство элит и стабильность политической системы. Напротив, если элиты не контролируют историю, усиливаются угрозы кризиса легитимности. Поэтому память о прошлом для российской власти не является явлением объективным и самостоятельным. Оно необходимо вписывается в определенную схему, в которой удобным для элиты образом настоящее соотносится с прошлым, а инновации – с традициями.
В данных рассуждениях выкристаллизовывается и роль культурного наследия в конструировании памяти власти. Связь культурного наследия с государственной памятью прослеживается через символическую природу власти и символические же пути и инструменты ее воспроизводства. Правящая элита, борясь за свою стабильность и самовоспроизводство, завоевывая легитимность, обращается к управляемым посредством различных «посланий», в которых закодированы идеи и смыслы идеальной (необходимой, обоснованной, богоданной и т.д.) власти. Эти идеи и значения, если они каким-то образом гармонируют с существующим в настоящем образом власти, обеспечивают и взаимопонимание общества и власти. Символические послания «из прошлого» конструируют «идеальную модель». Воспринимая послания, общество должно улавливать соответствие образа текущей власти символической модели «идеальной власти в России» (как правило, это консервативная историцистская модель). Именно в культурном наследии часто закодированы символы русской власти, поэтому государство заинтересовано в предъявлении обществу именно тех объектов наследия, в которых эти символы сконцентрированы в максимальной степени.
Отсюда избирательность власти в политике наследия. Одни объекты наследия соответствуют необходимому образу: они охраняются и максимально интенсивно предъявляются социуму. Другие объекты могут не соответствовать идеальной конструкции, диссонировать с ней. Их восприятие может привести к тому, что общество уловит несоответствие власти символическим кодам. Такого рода объекты выводятся за пределы властного дискурса. Императив избирательности в политике наследия иллюстрируется предельно откровенным высказыванием одного из самых известных апологетов революционной политики памяти — М.Н. Покровского: «Ведь нельзя же так, как у нас: некоторые хотят сделать из Москвы музей старых зданий. Нельзя же так. Вот точно так же и в истории — кого то нужно выселить оттуда, выселить излишние персонажи, которые теперь совершенно не нужны. Так что, конечно, целым рядом этих исторических персона -жей придется пожертвовать, но наиболее махровые, колоритные останутся, но оста нутся в надлежащем освещении»1.
Власть предлагает гражданам те объ -екты культурного наследия, в которых «закодированы» образы и символы, по -средством которых следует прочитывать и интерпретировать прошлую и настоя щую власть и видеть необходимые совпа дения. Символы прошлого используются властью для описания и классифика-ции явлений политического настоящего. «Присваивая» себе символы прошлого, элиты подчиняют себе и само прошлое. Символическая легитимность для россий ских элит — дополнительное и немало -важное основание легитимности, которое делает политическую систему устойчивой к внешним и внутренним кризисам.
Таким образом, в России память, в пер -вую очередь, — политический ресурс и лишь во вторую — объективная данность. Именно это имел в виду М.Н. Покровский, заявлявший: «История не есть самодовле ющая задача, история — величайшее орудие политической борьбы, другого смысла история не имеет»2. Ему же принадлежит и другая знаменитая фраза: «История, политика прошлого, чрезвычайно увя зана с политикой настоящего»3. Поэтому в России и культурное и историческое наследие не столько кумулируется и охра няется, сколько эксплуатируется тем или иным образом: оно конструируется, под чиняется, интерпретируется, акцентиру ется, присваивается в соответствии с зада чами текущего момента. Отсюда и относи -тельность ценности культурного наследия:
она не имманентна, не постоянна — она определяется властью в соответствии с ее потребностями и интересами. Смена инте-ресов и потребностей приводит к измене нию (повышению, понижению вплоть до полного уничтожения) самой ценности.
Последнее обстоятельство связано также с тем, что важнейшим компонен том политики памяти в России является вытеснение, забывание. Политика забыва -ния, как правило, нацелена на вывод про блемы, существовавшей в историческом прошлом, из пространства общественной дискуссии или откладывание дискуссии до того момента, когда участие в ней смо жет принять только поколение людей, не являвшихся свидетелями самих обсуждае мых событий.
Практика «забвения» в политике памяти используется не менее широко, чем кон струирование искусственных моделей прошлого. Забвение как одно из эффек-тивных направлений политики памяти также нашло свое теоретическое обо снование в работах М.Н. Покровского. В послереволюционный период забвение применялось особенно интенсивно. Из истории российского государства «выма рывались» целые пласты, периоды, на государственное забвение были обречены политические и государственные дея тели, институты, организации. Следует заметить, что забвение определенных этапов, отказ от целых пластов историче ского и культурного наследия усложняет конструирование моделей прошлого. Революционная, отрицательная (отри цающая) полития с трудом находит свою связь с прошлым. Соответственно, навя-зывание населению сложно сконструиро ванных моделей прошлого в эти периоды осуществляется интенсивно и навязчиво, с помощью средств массового воздействия на политическую аудиторию. Периоды «перелицовки» прошлого приводят к его тотальному обесцениванию. Уничтожение — конструирование нового прошлого лишает граждан социальной истории как таковой. По меньшей мере, одно поколе -ние, на сознательную гражданскую жизнь которого приходятся эксперименты с го сударственной памятью, оказывается бес памятным. Оно формируется в простран -стве «обратной» идентичности, когда одно прошлое уже признано деактуализиро ванным, а другое еще не в полной мере сконструировано. В этом случае «жизнь утрачивает исторический контекст, ограничивается выживанием, достижением сиюминутных целей»1. Поколение без прошлого оказывается потерянным поколением, в т.ч. потерянным для безусловного подчинения государству. Власть в периоды смут неустойчива и нестабильна, а граждане расколоты на группы, каждая из которых привержена одной из моделей прошлого (деактуализирующейся, формирующейся, синтетической, «отрицательной»). Государственная власть в этих условиях оказывается нестабильной и неустойчивой конструкцией. Поэтому в периоды исторических сломов элита выказывает заинтересованность в скорейшем конструировании «упрощенной» модели памяти (наряду с упрощенными моделями управления, примитивными схемами воспроизводства элит и т.д.), снимающей хотя бы часть социально-политических конфликтов и противоречий.
Для устойчивости политической системы и стабильного воспроизводства власти память о власти также должна быть стабильной, контролируемой и актуализируемой по мере необходимости, а значит, в понимании российской элиты, она должна быть проста и незамысловата. В связи с этим в смутные, переломные, кризисные моменты элита, как правило, форсированно конструирует максимально упрощенную, порой – до примитивизма, модель прошлого. Ориентация элиты на опрощение, как правило, вызывает к жизни историцистские схемы далекого идеализированного прошлого, применяемые для обеспечения «устойчивого существования в противовес неопределенному настоящему и тем более будущему, которое требует усилий и напряжения»2.
Такой подход обеспечивает системе власти стабилизацию, однако, как правило, приводит к демодернизационным откатам в развитии социально-политического организма. Эту закономерность действия «простых моделей» истории проиллюстрируют те попытки символического воспроизводства власти, которые предпринимались элитами в кризисные («смутные») периоды политической истории. В смутное время, после 1917 и 1991 гг., порядок воспроизводства власти нарушался; все персоны, олицетворявшие власть, были самозванцами, поскольку являлись извне властного континуума, из исторического «ниоткуда». Сохранение властных позиций вынуждало новые элиты на первых порах прибегать к сложным синтетическим схемам символического воспроизводства, включающим «отрицание» части истории (историческое забвение). Однако это вызывало к жизни «потерянное поколение» и приводило к дестабилизации системы. Поэтому через короткое время власть возвращалась к интенсивному формированию или воспроизводству опрощенной картины государственной памяти (историцистской схемы). Причем это всегда оказывалась авторитарносамодержавная схема, внутри которой самодержавие (единовластие) рассматривается как естественная, имманентно присущая России форма осуществления государственной власти.
В этой простой символической модели центральной фигурой выступает «царь-батюшка»3. Интериоризация гражданами упрощенной схемы власти должна, в соответствии с замыслом элиты, приводить к безоговорочному и безусловному подчинению, подкрепляемому верой во всесилие, непорочность и мессианские масштабы личности вождя, т.е. воспроизводству характерного для России подданнического типа политической культуры и политического поведения большинства населения.
В свете понимания этого обстоятельства отнюдь не случайным выглядит «социальный заказ», который государственная власть в периоды восстановления самодержавных историцистских схем предъявляет к памятникам культурного наследия: отображение в художественной форме наиболее значимых исторических эпизодов, связанных с абсолютной властью «сильной руки».
Слабые места упрощенной схемы самодержавия «компенсируются» демократическими или псевдодемократическими элементами. Востребованными для воспроизводства памяти власти оказываются не только памятники, символизирующие мощь и непогрешимость самодержавия, но и объекты, кумулирующие и воспро- изводящие коллективистские ценности, удовлетворяя естественную человеческую потребность в психологической интегра-ции в социум и политическую систему. Культурное наследие такого рода призвано «подсказывать» гражданам символическое средство, с помощью которого человек может выразить свою социетальную иден-тичность. Этим средством является кол -лективный способ поведения (например, во время кризисов, войн, на выборах).
Государственные элиты включают куль -турное наследие в следующий механизм воспроизводства коллективной памяти. Граждане, которые вследствие разных причин социокультурно ориентированы на прошлое, через художественные памят-ники различных эпох интериоризируют подчинение интересам большинства как условие своей личной безопасности, равенство в подчинении, которое явля лось существенным аспектом общинно сти, единства, коллективизма. Объекты культурного наследия призваны поддер живать систему установок, которая дол гое время остается основой символиче ской схемы российской власти, которую можно определить как государственно патерналистский синдром.
Именно такой подход к политике госу-дарственной памяти — конструирование упрощенной историцистской схемы вели кодержавности — демонстрирует государ-ство с самого начала XXI в.
Определенные (избранные элитой в соответствии с императивом избира тельности) пласты культурного насле дия выполняют еще одну важную задачу: они не только легко встраиваются в про стые консервативные историцистские схемы, но и выполняют роль тормоза, замедляющего социально политическое движение, сглаживающего модернизаци онные ритмы, а следовательно снимаю щего социально политическое напря жение. Замедление темпа социально-политического прогресса, в соответствии с замыслами элиты, «преподносится» населению как стабилизация. Для закре -пления такого эффекта культурное насле -дие и его интерпретации искусственно нагнетаются и навязываются гражданам. Нагнетаемое искусственно сконструиро -ванное прошлое, в соответствии с запро сами элиты, становится одновременно и ответом на запрос общества на порядок и стабильность. Интересно, что в этой функции важно даже не содержание исто рической конструкции, а само ее нали чие. Таким образом, если в начале смуты власть тяготится прошлым и избавляется от значительных его пластов, опираясь, в первую очередь, на механизмы забвения, то в завершающие смуту периоды прошлое становится ресурсом создания иллюзии стабильности.
Следует отметить еще одну немаловаж-ную особенность политики государст венной памяти в России. Как правило, государство не только использует память (историю, память об истории) в качестве властного ресурса, но подводит опреде ленную идеологическую базу под сами действия, нацеленные на насаждение историцизма. Обоснование политических манипуляций с национальной памятью и историей, как правило, базируется на трех основных аргументах.
Во - первых, память представляется как пространство политической борьбы с внешними и внутренними (в т.ч. потенци-альными) политическими оппонентами или противниками. Как правило, в про цессе государственного администриро вания памяти и истории этой причиной объясняются попытки контролировать и направлять деятельность историков и искусствоведов.
Во вторых, довольно распространен ными бывают ссылки на «мировой» или исторический опыт. Мы не можем не согласиться с А. Миллером, который констатирует, что «подлинные или вооб ражаемые примеры манипуляций в сфере исторического сознания и коллектив ной памяти в других странах неизменно используются государством как пример того, чего следует опасаться и избегать, но для подтверждения тезиса о “неизбежном зле”, акцент при этом делается на “неиз-бежности”, постепенно превращающейся в необходимость»1.
В - третьих, за самоочевидную априор -ную посылку выдается тот спорный, на наш взгляд, тезис, что историки, искус ствоведы и представители общественных наук в целом должны быть соратниками или даже верными солдатами государства в борьбе с «исказителями» истории, вра гами общества и государства.