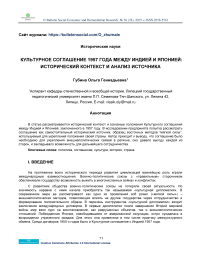Культурное соглашение 1957 года между Индией и Японией: исторический контекст и анализ источника
Автор: Губина Ольга Геннадьевна
Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial
Статья в выпуске: 26 (28), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются исторический контекст и основные положения Культурного соглашения между Индией и Японией, заключенного в 1957 году. В исследовании предпринята попытка рассмотреть соглашение как самостоятельный исторический источник, образец восточных методов "мягкой силы", используемый для укрепления положения своей страны. Автор приходит к выводу, что соглашение было необходимо для укрепления внешнеполитических связей в регионе, оно давало выгоду каждой из сторон, и закладывало возможность для дальнейшего сотрудничества.
Политика, соглашение, культура, история, страна
Короткий адрес: https://sciup.org/14133045
IDR: 14133045 | DOI: 10.5281/zenodo.15776979
Текст научной статьи Культурное соглашение 1957 года между Индией и Японией: исторический контекст и анализ источника
На протяжении всего исторического периода развития цивилизаций важнейшую роль играли международные взаимоотношения. Военно-политические союзы с «правильным» сторонником обеспечивали государству возможность выжить в многочисленных войнах и конфликтах.
С развитием общества военно-политические союзы не потеряли своей актуальности. Но значимость наравне с ними начала приобретать так называемая «культурная дипломатия». В современном мире ее рассматривают как одно из проявлений soft power («мягкой силы») – внешнеполитических методов, позволяющих влиять на другие государства через сотрудничество и формирование положительного образа. В перечень инструментов «культурной дипломатии» входит заключение международных договоров. В первые десятилетия после завершения Второй мировой войны мир взял курс на восстановление, как разрушенных объектов, так и внешнеполитических отношений. Побежденная Япония, освободившаяся от американской оккупации, остро нуждалась в возрождении утраченного имиджа. Для этого она применяла в том числе практику межкультурного обмена. Среди договоров 1950-х годов было и Культурное соглашение с Индией 1957 года.
Индия со своей стороны была заинтересована в выстраивании позитивных отношений в регионе. Более того, в Японии она видела одну из трех ведущих стран АТР (Selected Works, V.39, p. 551-552) и считала ее примером государства, взявшего курс на ускоренное развитие науки и техники. Культурное соглашение между Индией и Японией было лишь вопросом времени.
Однако само Культурное соглашение упоминается в ряде работ как свершившийся факт, но не рассматривается как непосредственный предмет изучения, хотя послужило базой для зарождения межкультурных взаимоотношений, которые сохранены до настоящего времени.
Через анализ исторического контекста, в котором было заключено Соглашение, тезисов его статей и их реализации можно рассмотреть применяемые методы «мягкой силы», понять образ, который пытаются выстраивать государства для своих союзников, со стороны, и использовать его в интересах национальной политики в регионе.
II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В начале 1950-х годов Япония была в статусе, по сути, «зависимого» государства, так как с окончания Второй Мировой войны была подвержена оккупационному режиму американских войск под командованием генерала Д. Макартура.
Если первый период оккупации (1945-1948 годы) был направлен на активное снижение милитаристских взглядов Японии, отказ от прежней идеологии и создание условий, исключающих возможность возрождения военного потенциала, то к концу 1940-х годов взгляды начали меняться.
В мире набирала обороты Холодная война, и в Вашингтоне было принято решение использовать Японию как собственноручно созданного союзника (Панов, 2010, с. 234). В стране начался обратный переход к перевооружению и восстановлению военно-промышленного потенциала.
-
25 июня 1950 года началась Корейская война. И хотя Япония, ввиду отсутствия армии, распущенной девятой статьей Конституции 1947 года, не могла принимать непосредственного участия в боевых действиях, она стала основной базой американских вооруженных сил на Дальнем Востоке. «Корейская война оживила японскую экономику» (Совастеев, 2008, с. 261), благодаря военным «спецзаказам» уже к середине 1950-х она преодолела последствия войны и превысила предвоенный уровень.
-
8 июля Макартур выдал предписание создать Национальный полицейский резерв, корпус морской полиции и Управление национальной безопасности для их контроля. Изначально они должны были «служить сдерживающей силой, а при необходимости и подавлять … движение народных масс» (Панов, 2010, с.235). Фактически они заменили официально «запрещенные» вооруженные силы Японии.
После изменения политики в сторону союзнических отношений наибольшую актуальность начал набирать поднимавшийся с 1946 года вопрос о заключении мирного договора. После попытки созвать конференцию из членов Дальневосточной комиссии, от участия в которой отказался Советский Союз, США начали подготовку сепаратного мира с Японией. Премьер-министр Японии Ёсида одобрил его «как предпосылку заключения всестороннего мирного договора» (Молодяков, Молодякова, Маркарьян, 2007, с. 276).
4-8 сентября 1951 года состоялась конференция в Сан-Франциско. В ней участвовали представители 52 стран, включая Японию. Ни КНР, ни Тайвань, несмотря на понесенный ущерб, приглашены не были, что было объяснено разногласиями по поводу легитимности их правительств. Из-за отсутствия Китая Индия и Бирма отказались от участия в конференции, а СССР, Польша и Чехословакия не стали подписывать договор. 8 сентября 1951 года мирный договор был подписан представителями 48 стран. «Соглашение прекращало <…> состояние войны, предусматривало вывод оккупационных войск, <…> восстанавливало суверенитет Японии» (Мак-Клейн, 2011, с. 675).
В то же время США, желая сохранить позиции, проводили с Японией переговоры, завершившиеся подписанием японо-американского «Договора безопасности», который «позволял Соединенным Штатам размещать свои войска на территории Японии» (Там же). 28 февраля 1952 года было заключено «Административное соглашение», «предусматривавшее порядок размещения американских войск, <…> на территории Японии» (Эйдус, 1968, с.195).
Все три документа были ратифицированы 28 апреля 1952 года. Оккупация страны была официально прекращена.
Правительство Японии взяло курс на выход на мировую арену в качестве одного из лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона. Одним из способов заявить о себе она видела членство в ООН, и, вступив в него в декабре 1956 года, Япония «…стала принимать самое активное участие в [его] деятельности» (Мелконян, Понька, 2023, с.101), в связи с чем не могла не коснуться деятельности ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), основной целью которой было заявлено «…содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры…» (Об организации ЮНЕСКО).
Также из доклада МИД Японии («Синяя книга дипломатии») за 1957 год можно узнать, что помимо деятельности в рамках ЮНЕСКО страна заключала Культурные Соглашения с другими странами «с целью содействия культурному обмену» (Diplomatic Bluebook, 1957). Отдельно упоминается обмен ратификационными грамотами по ранее заключенному Соглашению с Индией (Ibid.).
Однако прежде, чем обращаться к анализу непосредственно Культурного соглашения, необходимо рассмотреть, в каком историческом контексте строилась история Индии 1950-х годов.
В 1947 году Индия получила статус доминиона, а в 1950 провозгласила себя «светской и демократической республикой» (Шампри, 2021, с. 282), полностью избавившись от колониальной зависимости.
Фактическая власть в стране сосредоточилась в руках премьер-министра Джавахарлала Неру (1889 - 1964). «Благодаря престижу, популярности и энергичному характеру его влияние на индийскую политику было огромным» (Таммита-Дельгода, 2010, с.262).
«Задачи, с которыми предстояло справиться новому государству, были экстремальными» (Зубжицки, 2023, с.240). Социальная ситуация оставляла желать лучшего – низкий уровень жизни, бедность и расслоение населения, массовая неграмотность. Общество было разрозненно «по языку, религии, географии, национальности» (Там же, с.241), периодически вспыхивали восстания.
Основной целью Неру в социальной политике было улучшение уровня жизни населения. Была проведена реформа образования – оно становилось доступным для всех слоев населения, независимо от пола, введено обязательное начальное образование, создавалось множество высших и среднеспециальных учебных заведений. Был принят закон о неприкасаемых, запрещена дискриминация «на основании религии, расы, касты или пола» (Зубжицки, 2023, с.246). Равные права с мужчинами получили женщины, а в 1955 и 1956 годах были дополнительно приняты новые законы – об индийском браке (давал право на развод, поднимал минимальный возраст брачующихся) и о правах наследования (женщина становилась равноправной наследницей).
Социальные преобразования курса Неру были направлены на преодоление наиболее ярких проблем индийского общества. За образец брались более развитые страны Европы. Тенденция превращения Индии в современное государство была намечена.
Что касается внешней политики Индии 1950-х, то она основывалась на трех принципах – «антиколониализм, нейтралитет и неприсоединение к политическим блокам» (Шампри, 2021, с. 283). Основной задачей внешней политики Индии того периода стали «поиски и определение достойного места страны в мире» (Юрлов, Юрлова, 2010, с. 576). Идея позитивного нейтралитета сформировалась еще в конце 1940-х. В сути концепции лежало неприсоединение Индии к лидерам биполярного мира – СССР и США, находившимся в состоянии Холодной войны. Неру призывал и другие «небольшие страны» (Таммита-Дельгода, 2010, с.278) избегать альянса с упомянутыми акторами.
Концепция «позитивного нейтралитета» привела к возникновению принципов панча шила (невмешательства и мирного сосуществования). В политике они были впервые сформулированы в 1954 году и предусматривали взаимоуважение территориальной целостности и суверенитета, ненападение и невмешательство во внутреннюю политику, соблюдение принципов равенства и взаимовыгоды сторон, мирное сосуществование. Эти принципы легли в основу Движения неприсоединения, возникшего на Бандунгской конференции 1955 года.
При этом, пропагандируя неприсоединение, Индия не отказывалась от активной внешней политики, напротив, старалась позиционировать себя как одного из лидеров азиатско-тихоокеанского региона, способного сплотить его под своим началом. Другими лидерами она видела КНР и Японию. И если отношения с Китаем были порой весьма неоднозначными (территориальные споры сменялись заключением новых договоров и выстраиванием связей), то отношения с Японией шли к уверенному сближению.
Индия была одной из первых стран, заключившей собственный мирный договор с Японией. В день подписания Сан-Францисского мира глава индийской дипломатической миссии в Японии направил министру иностранных дел Японии сведения «о намерении <…> прекратить состояние войны <…> и установить дипломатические отношения» (Леленкова, 2015, с.101). Мирный договор был подписан 9 июня 1952 года в Токио. В преамбуле договора было прописано «содействие общему благу своих народов и поддержание международного мира и безопасности в соответствии с принципами Устава [ООН]» (Treaty of peace, 1952), а в статье 1 звучала такая формулировка, как «прочный и вечный мир и дружба» (Ibid.). В целом, 1950-е годы стали периодом сближения стран.
На самом деле их отношения приобрели тенденцию к сближению уже за несколько лет до этого. На Токийском процессе 1946-1948 годов, посвященном суду над японскими военными преступниками, именно представитель Индии Радхабинод Пал (1886–1967) оказался человеком, неожиданно для всех выступившим в поддержку обвиняемой страны. «…Все <…> обвиняемые должны быть признаны невиновными <…> и <…> быть оправданы по всем <…> пунктам» (Pal, 1999, p.697), – звучало в заключительной части его «Особого мнения». Пал ставил под вопрос легитимность самого трибунала. Его мнение не отменило решения, но «морально поддержало дух японского народа <…> [и] вызвало чувство глубокой благодарности» (Леленкова, 2015, с. 98).
Уже через год премьер-министр Джавахарлал Неру «от лица детей Индии детям Японии» (Indira, a female elephant, 1983) подарил японскому зоопарку в Уэно индийскую слониху, названную Индирой в честь его дочери. Поводом стали многочисленные письма от японских школьников о том, как сильно они хотели бы увидеть настоящего слона. Индира стала символом дружественных взаимоотношений двух стран.
Но даже страны одного региона в силу особенностей своего исторического развития имели совершенно различное мировосприятие, собственный малопонятный для других культурный бэкграунд. Чтобы дать сторонам возможность лучше понимать друг друга, в рамках сближения и укрепления связей между сторонами 29 октября 1956 года в Токио было заключено Культурное Соглашение.
Ратификация произошла 24 мая 1957 года во время «азиатских турне» премьер-министра Японии Нобусукэ Киси (1896 - 1987). После прихода к власти Киси взял направление на восстановление международного имиджа среди стран Азиатской части мира, в том числе пострадавших от действий Японии во Второй Мировой войне. В своей политике он совмещал приношение официальных извинений с вопросами о послевоенных репарациях, которые он «использовал…как средство для продвижения в Юго-Восточную Азию» (Kitaoka, 2018, p.159). Результатом его деятельности стало заключение ряда различных соглашений с некоторыми странами, «имидж Японии в регионе улучшился» (Совастеев, 2008, с.271). Непосредственно Неру оказал Киси радушный прием и высказал уважение и восхищение (Selected Works, V.38, p.736) Японией и японским народом. Культурное соглашение относится к двусторонним международным договорам, заключенным между двумя государствами. Сторонами, заключившими Соглашение, выступили от Правительства Японии – Министр иностранных дел Японии гн Мамору Сигэмицу (1887-1957), со стороны Индии – Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Японии г-н Бинай Ранджан Сен (1898-1993).
Сигэмицу прошел довольно необычный путь. Трижды будучи министром иностранных дел во время и после Второй мировой войны, он стал тем человеком, которому пришлось подписать безоговорочную капитуляцию (The New York Times, 1957, p. 15), побывать на скамье подсудимых Токийского трибунала в качестве военного преступника, и способствовать вхождению Японии в ООН.
Сен в разные годы занимал должность посла Индии «в Риме, бывшей Югославии, Соединенных Штатах и Японии» (The Independent, 1993), главы индийской делегации в ООН и представителя в Совете Безопасности, но международное уважение заслужил благодаря своей кампании против голода.
Текст Соглашения составлен сразу на трех языках – английском, хинди и японском.
По структуре Культурное Соглашение можно разделить на преамбулу, восемь статей, содержащих различные аспекты будущих межкультурных взаимодействий, заключение, и подписи сторон.
В преамбуле прописаны основные причины и цели, по которым Правительства двух стран пришли к идее подобного сотрудничества. Среди них «многовековые культурные связи между двумя странами», желание «продвигать и развивать более тесные культурные связи в будущем» и стремление «углублять отношения и взаимопонимание между странами» (Cultural Agreement, 1956). Таким образом, оба государства планировали укрепить свой авторитет в глазах друг друга посредством soft power.
Нельзя не упомянуть, что культурная политика подобного толка уже существовала между странами с самого начала XX века. В 1903 году было провозглашено создание Японо-индийской ассоциации (JIA), которая преследовала примерно те же цели – развитие «доброй воли между народами». И если первоначальный интерес Ассоциации лежал в сфере экономики и рассматривал культурные проявления как товары для продажи, а во время войны она «была запрещена союзными войсками за сотрудничество с движением за независимость Индии», то после войны ее сфера деятельности расширилась и стала включать культурные аспекты (Ничиин кёкай но ауюми).
Статьи являются неоднородными по составу: большая их часть (пять из восьми) содержит только один параграф и, соответственно, раскрывает только одно положение в нем. Оставшиеся три содержат два (статьи два и восемь) или четыре (статья семь) параграфа.
Среди статей отдельно можно выделить первую, в которой подробно рассматриваются общие положения, и восьмую, которая раскрывает порядок вступления Соглашения в силу.
Основной задачей первой статьи значилось «обеспечить понимание культуры своей страны в другой стране» (Cultural Agreement, 1956), для чего стороны обязуются предоставить друг другу возможности для ознакомления с культурой другой стороны посредством:
-
– книг, периодических изданий и других публикаций;
-
– лекций, концертов и театральных представлений;
-
– художественных выставок и других культурных мероприятий;
-
– радио и подобных средств;
-
– научных, образовательных или культурных фильмов.
Точнее всего отследить реализацию пунктов Соглашения можно через конкретные проявления в последующие годы и их отображение в новостных сводках, официальных отчетах или историях организаций. Стоит учитывать, что культурное взаимодействие между странами сохраняется до настоящего времени, и факты подтверждения культурного обмена встречаются на протяжении всего периода. Уже в Совместном заявлении премьер-министров Неру и Киси, вскоре после ратификации Соглашения, были обозначены: (1) желание «пожертвовать большое количество книг и других публикаций» (Совместное заявление, 1957) со стороны Японии, чему Неру «был рад» (Там же), и (2) просьба японской стороны «предоставить информацию по вопросам науки, техники, экономики и культуры, которая послужила бы справочниками для экономического развития и понимания культуры» (Там же).
Данное заявление перекликается и с другими статьями Соглашения, например второй (в части второго параграфа), об обучении в научно-технических и промышленных учреждениях своей страны, или четвертой, о получении технической подготовки специалистов в стране другой Стороны.
Вторая статья делилась на два параграфа. Первый из них определял, что обе стороны будут «поощрять обмен […] профессорами, учеными, студентами и сотрудниками научных и культурных учреждений» (Cultural Agreement, 1956). Подтверждение того факта, что культурные обмены действительно практиковались после заключения Соглашения можно встретить, например, в воспоминаниях профессора японского университета Рикке Масакацу Кониси. Выступая на одном из симпозиумов, проведенных в честь двадцатилетнего юбилея Японской ассоциации исследований Южной Азии, профессор «представил очень личную ретроспективу» (Кониси, 2010, с.148) и обратился к собственному опыту обучения в Калькуттском университете с 1961 по 1964 год. Здесь же он упомянул о том, что «правительство Индии […] создало систему программ обучения за рубежом […], и ученые, стоявшие у истоков послевоенных исследований Индии, покидали страну» (Там же).
В дальнейшем, уже после ратификации Соглашения и первых состоявшихся делегаций представителей индийской культуры в Японию, Джавахарлал Неру, во время своего визита в Токио и переговоров с Нобусукэ Киси «для содействия культурному обмену […] предложил обменяться не только профессорами и студентами, но и музыкантами, танцорами и кинематографистами, и японская сторона согласилась» (Selected Works, V.39, p.598). Этот факт подтверждал сам Неру в письме к премьер-министру Киси от 16 апреля 1958 года: «…Культурное соглашение […] успешно работает. Как вам, должно быть, известно, группа наших выдающихся музыкантов и танцоров сейчас находится в турне по Японии» (Ibid., V.42, p.670). С японской стороны упомянутый ранее профессор Кониси также вспоминал, что «посещал выступления […] выдающихся индийских музыкантов и танцоров, которые начали приезжать в Японию после подписания японо-индийского культурного соглашения» (Кониси, 2010, с.148).
Второй параграф второй статьи касался обеспечения «всех возможных условий для обучения» сотрудников правительства другой стороны, а также любых других уполномоченных лиц в научнотехнических и промышленных учреждениях. Например, в Докладе МИД Индии за 1957-58 годы отмечается визит команды под руководством профессора Кихары, направленной «для изучения происхождения риса» (Annual Report, 1957-1958, p.33), а архивные записи Токийского института культурных ценностей упоминают экспедицию для исследования памятников индийского буддизма (Индо буссеки тоуса таи хакен, 1958).
Можно сказать, что страны добровольно соглашались на обмен достижениями, что, несомненно, способствовало укреплению дружественных связей между ними и, пропагандируя мирные и взаимовыгодные отношения в регионе, поднимало престиж стран как действительных лидеров.
В третьей статье стороны договаривались о создании культурного института другой стороны на своей территории. Под термином «культурный институт» понимались любые организации научного и культурного толка: «образовательные центры, библиотеки, научные учреждения образовательного характера и учреждения по развитию искусства, такие как картинные галереи, художественные центры, общества и киноархивы» (Cultural Agreement, 1956). Примером реализации данной статьи может выступать Культурный центр им. Вивекананды, расположенный на территории посольства Индии в Токио. В деятельность центра входят «концерты, художественные выставки, танцевальные выставки, кинопоказы, семинары и мастер-классы» (Vivekananda Cultural Centre), он регулярно проводил тренинги по йоге, индийским народным танцам, лингвистические занятия. В статье четыре стороны рассматривали возможность предоставления стипендий гражданам противоположной стороны и других возможностей «для обучения и проведения исследований, а также для получения технической подготовки в стране другой договаривающейся стороны» (Cultural Agreement, 1956). Частично она перекликалась со второй статьей, единственное, служила уже не для обмена, а для привлечения иностранных студентов. Очевидно, таким образом, страны полагали повысить престиж собственного образования в регионе за счет повышения доли учащихся-иностранцев. Другой выгодной причиной для сотрудничества выступала возможность проведения совместных исследовательских проектов.
Как и любая высокоразвитая страна, и Индия и Япония всегда пытались получить выгоду для собственного интеллектуального развития путем обмена опытом и использования преимуществ новых проектов от коллективного научного сообщества. В упомянутом ранее Докладе МИД Индии за 1957-58 годы отмечено, что «как и в прошлом году, Индии были предложены две стипендии для обучения индийских студентов в Японии» (Annual Report, 1957-1958, p.33).
Пятая статья показывала, что Соглашение рассматривало более широкое взаимодействие, нежели исключительно культурные проявления. Она прописывала возможность «поощрять спортивные соревнования между гражданами [...] и сотрудничество между признанными [...] скаутскими организациями» (Cultural Agreement, 1956).
Можно отметить такой вид спорта, как скалолазание. Уже в ближайший год после ратификации в Индию приезжали альпинистские команды Японии для попытки «восхождения на О-Чуя и Гауришанкар» (вероятно, имелось в виду наименование горы Чо Ойю; обе горы принадлежат к Гималайскому хребту, -прим. автора) (Annual Report, 1957-1958, p. 33).
Что касается скаутинга, то движение начало свое существование в Индии в 1909 году, когда капитан Т.Х. Бейкер основал первый скаутский отряд в Бангалоре (The Bharat Scouts and Guides History). Впоследствии были созданы еще несколько отрядов в разных населенных пунктах. В 1950 году ассоциации скаутов и гидов были объединены в организацию «Бхаратские скауты и гиды».
Первые попытки организовать движение в Японии были предприняты тоже в 1909 году, но «Национальная ассоциация скаутов Японии» была основана только в 1913-м (Скаутское движение в Японии, 2011). В отличие от Индии, японские скауты прекращали деятельность на время Второй мировой войны; движение было восстановлено лишь в 1950 году.
В целом, договор о взаимодействии скаутского движения, очевидно, был включен в Соглашение под эгидой ЮНЕСКО, так как Всемирная организация скаутского движения имела при нем статус консультативного органа с 1947 года (Scouting’s History). Подтверждения контактов непосредственно между организациями Японии и Индии в период 1950-х годов зафиксировано не было, но нельзя исключать неформальное общение и обмен опытом представителей движения обеих стран на всемирных скаутских слетах.
Шестая статья предоставляла гражданам противоположной стороны «доступ в музеи, библиотеки и другие информационные центры» на своей территории в соответствии со своими законами и правилами. Данный подход типичен для межгосударственных культурных взаимодействий, когда представители иных стран допускаются к посещению культурных центров принимающей стороны на ее условиях.
Седьмая статья Соглашения содержала сразу четыре параграфа, которые определяли некоторые условия для его выполнения. Так, первый параграф сообщал об учреждении двух японо-индийских смешанных комиссий – в Токио и в Нью-Дели. Индийский исследователь Гундре Джаячандра Редди подтверждал создание комиссии «с целью укрепления культурных отношений путем проведения культурных мероприятий как в Японии, так и в Индии» (Reddy, 2014, p.53). Он также отмечал создание центров японоведения при университетах Дели, Вишва Бхарти и Технологическом университете Джавахарлала Неру (JNTU).
Помимо комиссий Культурное соглашение поспособствовало возникновению Японо-индийской культурной ассоциации Кансай на базе Киотского университета. Она была создана в 1958 году «в честь заключения Культурного соглашения […] и визита […] премьер-министра Неру в Японию» (Кансай ничиин бунка куокай ни цуэ те). На сайте организации упоминается, что она была единственной признанной правительством Индии, и получала субсидии для своего развития. Во втором параграфе седьмой статьи рассматривался состав комиссии: «будет состоять из президента и четырёх других членов, из которых двое будут назначены правительством Японии, двое правительством Индии».
Третий параграф определял принцип назначения президента – им должен был выступать представитель той страны, в которой расположена данная комиссия, то есть «в Нью-Дели правительство Индии назначит президентом гражданина Индии, а в Токио правительство Японии назначит президентом гражданина Японии» (Cultural Agreement, 1956).
Четвёртый параграф регулировал частоту собраний комиссии – не реже одного раза в три года.
Восьмая статья, состоящая из двух параграфов, прописывала условия ратификации Соглашения и сроки его вступления в силу. Стороны договаривались обменяться ратификационными грамотами «как можно скорее в Нью-Дели» (Ibid.) (параграф 1), после чего Соглашение должно было вступить в силу сроком на десять лет и «после этого в течение шести месяцев со дня, когда одна из Договаривающихся Сторон уведомит о своем намерении расторгнуть Соглашение» (Ibid.) (параграф 2).
Завершался текст прописанным подтверждением заключения Соглашения обеими сторонами и краткой информацией о количестве экземпляров, дате составления, условиях обмена текстом Соглашения – в течении месяца с даты заключения. В конце стоят должности, инициалы и подписи сторон.
Несмотря на дальнейшее охлаждение отношений из-за «условной принадлежности сторон к разным геополитическим лагерям» (Корнеев, Печищева, 2020, с.43) межкультурные взаимоотношения между странами не прекращались. Продолжался обмен специалистами, проводились концерты и фестивали, посвященные культуре противоположной стороны, большую популярность приобрела киноиндустрия.
Если обратить взгляд на XXI век, можно увидеть, что установленные в 1956 году культурные связи продолжают действовать. 2017 год был объявлен Годом культурного обмена между Индией и Японией (Kapila, 2017), в честь 60-летия со дня заключения Культурного Соглашения. В течении года было проведено более 250 мероприятий (Duarte, 2024) в обеих странах.
Культурная дипломатия, а именно ее основы были заложены в том числе и благодаря заключению Соглашения, приобретает особую значимость в условиях общемировой тенденции глобальной напряженности политических взаимоотношений. Культурная интеграция, реализуемая путем soft power, способствует экономическому росту, развитию и укреплению социальных связей в регионе, межгосударственному сотрудничеству, и повышает международный имидж государства.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мы видим, что Культурное Соглашение между Индией и Японией стало одним из международных договоров, заключенных в рамках глобального культурного обмена.
Обе страны были заинтересованы в установлении дипломатических отношений всеми возможными способами. Япония, освободившаяся от американской оккупации, нуждалась в скорейшем восстановлении своего положения и выходе на международную арену. Индия, имевшая вес в мировом сообществе, могла ей поспособствовать.
Сама Индия, вставшая на путь независимого развития, воспринимала Японию как возможного близкого партнера и союзника, одного из лидеров АТР, выстраивание отношений с которым было взаимовыгодно. «…Мы должны развивать эти отношения, культурные и всевозможные, чтобы лучше узнать друг друга, восстановить старые связи, понять друг друга», – говорил Джавахарлал Неру в одном из интервью 1957 года на вопрос о культурном обмене между Индией и Японией (Selected Works, V.39, p.561).
Основной целью для обеих сторон было распространение знаний о своей стране с целью повышения ее имиджа, более глубокого понимания своего политического окружения. Глубинное проникновение «на изнанку» друг друга через получение сведений о культурной жизни населения, несомненно, было ценным знанием.
Заключение Культурного Соглашения послужило основой для сближения, укрепило дружественные отношения на десятилетия, и послужило базой для активации дополнительного усиления взаимоотношений в XXI веке.
IV. БЛАГОДАРНОСТИ
Черешневой Л.А. с благодарностью. Вы вдохновляете меня двигаться дальше.