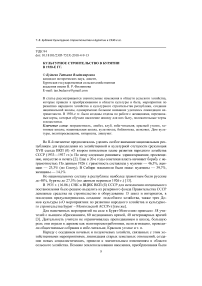Культурное строительство в Бурятии в 1930-е гг
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются значительные изменения в области сельского хозяйства, которые привели к преобразованиям в области культуры и быта, мероприятия по развитию народного хозяйства и культурного строительства республики, создание национальной школы, одновременно большое внимание уделялось ликвидации неграмотности. В 1930-е гг. были созданы отделы по работе с женщинами, передвижные юрты, которые обучали население новому для них быту, положительные черты и недостатки.
Неграмотность, ликбез, клуб, изба-читальня, красный уголок, хо- тонные школы, национальная школа, культпоход, библиотека, женсовет, дом культуры, политпросвещение, интернаты, ликпункт
Короткий адрес: https://sciup.org/148317456
IDR: 148317456 | УДК: 94 | DOI: 10.18101/2305-753X-2018-4-9-13
Текст научной статьи Культурное строительство в Бурятии в 1930-е гг
Во II-й пятилетке предполагалось уделить особое внимание национальным республикам для преодоления их хозяйственной и культурной отсталости (резолюция ХVII съезда ВКП (б) «О втором пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР (1933—1937 гг.)» По нему следовало развивать: здравоохранение, просвещение, искусство и печать [2]. Еще в 20-е годы советская власть начинает борьбу с неграмотностью. По данным 1926 г. грамотность составляла у мужчин — 46,5%, женщин — 23,3% (по Союзу). В Сибири показатели были ниже: мужчины — 39,7%, женщины — 14,1%.
Но национальному составу в республике наиболее грамотным были русские до 40%, буряты до 27,5% (по данным переписи 1926 г.) [13].
В 1935 г. (16.06.) СНК и ВЦИК ВКП (б) СССР для исполнения специального постановления было решено выделить из резервного фонда Правительства СССР денежные средства на строительство и оборудование 15 школ и интернатов, в последних предусматривалось создание подсобного хозяйства, также трех Домов культуры («О мероприятиях по развитию народного хозяйства и культурного строительства Бурят – Монгольской АССР») [там же].
Для намеченных мероприятий на селе в Бурят-Монголию приехало: 58 учителей с высшим образованием, 60 медицинских врачей, 40 ветеринарных врачей [3]. Деятельность учителя не ограничивалась преподаванием в школе, большую роль они играли в деревне как политпросветработники, вели агитацию, проводили общественные собрания в избе-читальне, Красном уголке и т. п.
Наряду с оседанием кочевых и полукочевых хозяйств, связанных с этим хозяйственными мероприятиями, ликвидация старых земельных отношений, создание новых социалистических, привели к значительным изменениям в области сельского хозяйства. Помимо землепользования населения, преобразования были в области культуры, быта. Обязательно в местах создания колхозов предусматривались и культурно-массовые учреждения: клубы, избы-читальни, красные уголки и объекты культурно-бытового назначения. По республике в 23 г. всего изб-читален насчитывалось 43, в 33 г. 153, в 37 г., по сравнению с 23 г., они увеличились почти в пять раз [4]. Избы-читальни для села играли большую роль: выписывались газеты и массовая книжная продукция, проводились лекции по политическому просвещению колхозников, давали основы агрономических и зоотехнических знаний. В них же располагались школы для малограмотных и неграмотных. Позже избы-читальни превратились в сельские клубы, 33 г. их было — 21. Если колхоз был с небольшим количеством хозяйств, в них создавались красные уголки, таких в 32 г. было — 554. Клуб и народный дом долгое время был очагом культурно-просветительной работы в деревне. В 1923 г. в аймачных центрах их было 46, в 1937 г. их число существенно выросло — 351 колхозный клуб и 21 дом социалистической культуры. Все они вели большую просветительную, политическую и воспитательную работу с население [1]. Всего в республике до 33 г. было организовано: 20 библиотек, 17 красных юрт и домов бурятки, имелось: 94 киноустановки, 1439 радиоприёмников и радиотрансляционных точек [5].
Одновременно с ликвидацией неграмотности создавалась национальная школа, в которой преподавали на родном языке. Количество бурятских школ в 1928 г. составляло 222. Большинство таких школ на начальном этапе испытывали нехватку учащихся, что объяснялось полукочевым и кочевым образом жизни населения. Ощущался и недостаток учителей, которые могли бы преподавать на бурятском языке, и учебной литературы. Но уже к 1934 г. все бурятские школы были укомплектованы учителями-бурятами, которые преподавали на родном языке. В этот же период было принято решение перевести бурятскую письменность на русский алфавит, был налажен выпуск учебников и литературы на родном языке. Благодаря предпринятым мерам к 37 г. грамотность населения Бурят-Монголии достигла 90% [6].
Оказывалась техническая помощь в строительстве школ, далеко находившимися от городских центров, были командированы специалисты, организованы курсы подготовки и переподготовки учителей и дошкольных работников.
Помимо создания пунктов и школ по ликвидации неграмотности, в 30-е гг. стал использоваться новый метод — культпоход. Для него организовывали из различных районов республики общественных деятелей (около двенадцати человек), которые одновременно посещали несколько аймаков, длительность его могла доходить до месяца. За время культпоходов было создано 46 хошунных школ, в которых обучалось 824 человека, 8 красных уголков, проведена 181 лекция и беседа, проводилось индивидуальное обучение на дому и организовано пять ячеек общества «долой неграмотность». В Агинском аймаке действовало 92 пункта ликвидации неграмотности, в которых обучались 1044 человека [7].
Специальной формой обучения были хотонные школы. Это было индивидуальное или групповое обучение учащихся. Хотонные школы имели большое распространение в восточных аймаках Бурятии, больше всего их было в Агинском районе, население поддерживало такие школы: предоставляло помещение, средства освещения и отопления. Учителей для этих школ выбирали на общем собрании жителей из числа грамотных.
Если брать по районам, то по количество грамотного населения больше всего было в Аларском, Боханском, Кяхтинском и Хоринском аймаках. Пункты по ликвидации неграмотности и школы для малограмотных действовали до конца 1930-х гг. При Наркомате Просвещения Бурят-Монгольской АССР были созданы советы по культурному строительству, такие же советы были в сельских (сомон-ных) и аймачных исполкомах. В 1931 г. грамотность составляла 49,7%, в 1933 г. — 67%, у мужчин — 79,7%, женщин — 54,5%, у бурятского населения — 72,7 и 48,6% соответственно. В 1936 г. — 70,3%, причём среди мужского населения грамотность доходила уже до 82% [8].
Учителя, которые внесли огромный вклад в просветительскую и культурную работу республики — это Н. Н. Амагаева, К. В. Бакланова, А. В. Гергенова, А. Е. Каландаришвили, Ц. Н. Номтоев, К. А. Убугунова и др. [9]
Как указывалось ранее, не все дети могли посещать школу, поскольку многие хозяйства были еще полуоседлыми, находились далеко от районного центра. Для таких семей создавались интернаты, в которых дети коренного населения могли учиться и жить. Интернаты обеспечивались мебелью и оборудованием, постельными принадлежностями, бельём, посудой, продуктами питания. Также, по данным статистики грамотных мужчин было намного больше, чем женщин, это объяснялось тем, что в семье в обучение предпочитали отдавать мальчиков, считая, что девочкам школа не так важна. Всего вначале 30-х гг. обучалось 38% детей школьного возраста [10].
Проводимая работа в области просвещения была, несомненно, положительной и оказала большое влияние на дальнейшее развитие колхозной жизни. Но, все же и здесь были серьёзные недостатки. Средства, которые выделялись на ликвидацию неграмотности, расходовались на другие нужды, не уделялось должного внимания со стороны центральных и местных органов власти, также начиная с 1928 г. денежные средства на ликвидацию неграмотности были сокращены до 15%. Встречались случаи откровенно плохой работы ликпункта: большая текучесть обучающихся, рецидив неграмотности, часто не учитывалась специфика населения, к каждой категории был необходим специальный подход, — бурятское (кочевники и земледельцы), русское (крестьяне и старообрядцы) [11].
В конце 20-х гг. было решено создать отделы по работе с женщинами, они создавались в областных и аймачных комитетах партии, на местах были организованы институты женских организаторов. Женщины–активистки проводили собрания, на которых с лекциями выступала местная общественность, а также приезжие политработники, врачи, учителя и др. В восточных регионах, где в основном население пока еще вело кочевой и полукочевой образ жизни, вводился передвижной метод работы женорганизаторов, создавались передвижные женские юрты и дома буряток.
Передвижные юрты носили название — «красная юрта», которые проводили передвижные консультации. Первые красные юрты появились Хоринском и Ки-жингинскомаймаках, их задача была не только читать лекции, но и научить практическим навыкам: шить одежду нового покроя, печь хлеб, соблюдать чистоту, гигиену, культуру, оказывали медицинскую помощь. Фамилии первых женорга-низаторов, которые были акушерками, культработниками и т. п. — М. Н. Сосни- на, М. А. Рампилова, И. П. Хулукшанова, культработники В. Д. Дамдинжапова, С. Р. Раднаева [12].
Работницы передвижных юрт пытались привить местному населению новые для них черты быта, к примеру, строительство бань. Деятельность женщин была значительной и со временем стала приносить ощутимые результаты. Кочевники стали пользоваться всем, чему учили в красных юртах: пользоваться банями, женщины-бурятки стали посещать кружки домоводства, с ними проводили индивидуальные беседы, учили печь хлеб, мыть посуду, стирать бельё, пользоваться мылом, рукоделию и шитью (вязать, шить, прясть шерсть). Там же они могли получить и медицинскую помощь. В середине 1930-х гг. красных юрт по Бурятии было примерно 10, в таких районах, как Хоринском, Селенгинском, Агинском, Верхнеудинском, Баргузинском и Баунтовском. В красной юрте имелась и своя библиотека, проводились занятия по изучению русского языка, ликбезы. По отзывам учителей, у бурятского населения было большое желание учиться, некоторые из них на занятия ежедневно приезжали за 10 км. [там же].
Список литературы Культурное строительство в Бурятии в 1930-е гг
- Бурят-Монгольская АССР за десять лет. - Верхнеудинск, 1933. - С. 134.
- ГАРФ, ф-310, оп. 16, д. 76, л. 43.
- ГАРБ, ф. 1, оп. 1, д. 171, л. 121.
- ГАРБ, ф. 60, оп. 1, д. 127, л. 11.
- ГАРБ, ф. 195, оп. 4, д. 140, л. 32.