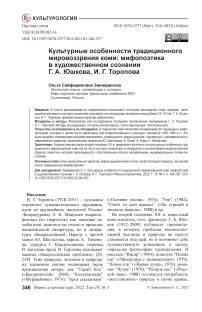Культурные особенности традиционного мировоззрения коми: мифопоэтика в художественном сознании Г. А. Юшкова, И. Г. Торопова
Автор: Ольга Сайфидиновна Зиявадинова
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассматривается содержательно-смысловой потенциал воплощения темы природы, являющийся ключевым в мотивно-сюжетном комплексе текстов ведущих прозаиков коми рубежа ХХ–ХХI вв. Г. А. Юшкова и И. Г. Торопова, приобретающий характер мифологемы. Материалы и методы. Материалом для исследования послужили прозаические произведения Г. А. Юшкова, И. Г. Торопова. Методы исследования: историко-литературный, сопоставительный, типологический. Результаты исследования и их обсуждение. В творчестве коми писателей обнаруживаются тенденции к мифологизации, которые в целом были характерны для младописьменных и молодых литератур 1960–1980-х гг. Это было вызвано стремлением монументализировать традиционное мироощущение, подчеркнуть «неправильность» современного развития, свойственным творчеству Ю. Шесталова, В. Санги, А. Кима, Ч. Айтматова. Заключение. Художественная проза второй половины ХХ в. предлагает взглянуть на культурные особенности традиционного мировоззрения коми как на часть истории литературы и обнаружить в использовании мифологических образов, сюжетов и мотивов закономерности, обусловленные эпохой, направлением, индивидуальным стилем писателей.
Коми национальный характер, мироощущение коми этноса, мифологизация природы, языческая эпоха, традиционное мировоззрение
Короткий адрес: https://sciup.org/147237810
IDR: 147237810 | УДК: 82.0(091)82-14 | DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.03.346-357
Текст научной статьи Культурные особенности традиционного мировоззрения коми: мифопоэтика в художественном сознании Г. А. Юшкова, И. Г. Торопова
И. Г. Торопов (1928–2011) – художник огромного гуманистического дарования, один из крупнейших писателей России. Литературовед А. К. Микушев охарактеризовал его творчество как «явление самобытное, заметное не только в пределах национальной литературы, но и литературы общероссийской. Наряду с прозой манси Ю. Шесталова, карела А. Тимоне-на, удмурта Г. Красильникова, пермяка В. Баталова проза И. Торопова поднимает важные общероссийские проблемы» [20, 249 ]. Теме природы, человека в природе, их взаимным связям посвящены такие произведения автора, как “Тэрыб Кок” («Быстроногий», 1969), “Кодзувкоткар” («Муравейник», 1974), “Арся сьыланкыв”
(«Осенняя песня», 1976), “Тян” (1982), “Оштö эн лый кыкысь” («Не стреляй в медведя дважды», 1988) и др.
Во второй половине XX в. известный коми писатель, поэт, драматург Г. А. Юшков (1932–2009) публикует произведения, в которых проблема взаимоотношений человека и природы не просто становится ведущей, но и подчиняет себе художественную концепцию в целом, определяя философию произведения. В рассказе “Висар” (1964), повестях “Пияна ош” («Медведица с медвежатами», 1979), “Ловъя лов” («Живая душа», 1979), романах “Чугра” (1979), “Рöдвуж пас” («Родовой знак», 1988) осознается потребность «восстановить» природу в своих правах, пробудить в человеке его «прапамять», в которой хранится «воспоминание» о пер-воистоке.
Произведения ярких и талантливых художников отличает некая типологическая общность в изображении взаимоотношений природы и человека. В художественном мире авторов представлены герои «земные в деяниях и помыслах» (В. Астафьев), образы которых определены бытийными координатами – землей, природой, традиционными устоями деревенского уклада. Родовой дом, опоэтизированный труд на земле, естественность и простота (наподобие природной сообразности) – главные столпы мировоззрения сельского жителя, детерминирующие начала концепции естественного человека, который задается архетипическими образами Дома и Деревни, спецификой хронотопа, парадигмой «человек – природа».
Особым духовным пространством героев, «природной обителью» и родовым основанием человека в коми прозе второй половины ХХ в. является деревня. Действие большинства произведений происходит в доме и на подворье, жизненное пространство человека ограничено домом, деревней, окружающей природой. Подобная организация топоса реализует творческие ориентиры на восприятие человека в традиционном контексте: сакральный образ мира в ценностных рамках земледельческой культуры является важнейшей характеристикой неразрывного «единства сознания и бытия героя с почвой (народной традицией и землей)» [1, 110–111]. Образ отчего дома в художественном мире писателей обретает дополнительный метафорический смысл: дом как гарантия защищенности, как центр мира с внутренним единством и упорядоченностью, объединяющий все поколения, основа стабильности и надежности, олицетворение родной природы и космического устройства, стержень национального мира. Родная деревня, родной край, отчий дом в широком смысле являются энергетическим центром, идеальным миром, куда лирический герой, уставший от цивилизации, от отсутствия в ней природного начала, возвращается, чтобы обрести новые силы. Дом символизирует освоенное пространство, где человек рождается и куда возвращается из любых странствий, где находится в безопасности, в гармонии с мирозданием.
Произведения авторов, посвященные концептуальным проблемам современности – состоянию природной среды, отношению к ней человека, укладу жизни и связанной с ним ментальности жителя Севера, образуют неотъемлемую часть литературного процесса ХХ столетия и представляют большой интерес для исследователей. Мифологическое воплощение темы природы в прозе рассматриваемых нами авторов позволяет выявить национальную самобытность, глубинные пласты духовной и материально-бытовой национальной жизни в художественной литературе и фольклоре, культурологические аспекты изучения поэтики природо-описаний. Изображение нестабильного состояния мира, распадающихся связей, дисгармоничного существования побуждает писателей искать в мифе онтологические, этические опоры, поскольку на ранних этапах истории человечества мифология представляла различные идеальные модели взаимоотношений человека и природы. Миф стал первоначальным воплощением высшего идеала космического единства и гармонии природы и человека.
Избранный ракурс интерпретации произведений с учетом их интегративности (актуализация совокупности архаических мифов о вселенском равновесии, о диалектическом развитии мироздания, об истоках бытия, мироздания, о влиянии природы на национальный характер и национальные эстетические представления) позволяет совместить природный, культурологический и литературоведческий аспекты анализа текстов. Исследование предпринято с целью выявить специфику мифологического воплощения темы природы в творчестве коми авторов, своеобразие воспроизведения и моделирования мифологического течения современной литературы. Изучение мифопоэтики, роли и особенностей функционирования мифа в коми прозе дает возможность во всей полноте представить своеобразие национальных художественных традиций, общность, восходящую к универсалиям мифомышления.
Обзор литературы
Вопросы, касающиеся различных воплощений мифопоэтического начала в художественной литературе, освещены в трудах Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, З. Г. Минц, С. С. Аверинцева и других исследователей.
Динамика развития и реализации концептуальных составляющих мифологического восприятия чувства природы нашла отражение в работах последнего десятилетия Т. Я. Гринфельд-Зингурс [8], С. С. Ди-нисламовой [10], О. С. Зиявадиновой [12], И. И. Иванова [13], Е. В. Косинцевой [14], Г. К. Лисовской [15; 16], В. Л. Сязи [24; 25], Е. А. Худенко [26], K. Emeny [29] и др.
На важную роль крупных проблем в развитии научного знания указывал В. И. Вернадский. Со временем они становятся все более сложными и масштабными. Поскольку их решение силами какой-либо одной науки не представляется возможным, необходимо привлечение всего арсенала современных научных знаний и объединение специалистов различного профиля. Исследователями подчеркивается комплексный характер проблемы взаимосвязи общества и природы, что проявляется в тенденции к расширению круга разрабатывающих ее наук [17; 28].
«Сама жизнь постоянно выдвигает злободневные проблемы, которые до сих пор не подвергались научному анализу. В их числе и комплексная проблема “экология – человек – природа – художественное творчество”»1. Современное литературоведение активно взаимодействует с семиотикой, историей, философией, политологией. Комплексное изучение натурфилософской прозы позволит выявить определенные закономерности в ее разви- тии, осмыслить такой феномен в литературном процессе второй половины XX в., как художественная натурфилософия. Изучение натурфилософской прозы второй половины XX в. осуществляется в исследовании в литературоведческом ключе с привлечением необходимых сведений из других областей знания (экологии, философии, мифологии, этнографии, культурологии и др.).
Художественные произведения Г. А. Юшкова и И. Г. Торопова были переведены на многие языки мира, в том числе финно-угорские: венгерский2, финский3 эстонский4.
Материалы и методы
Материалом исследования являются наиболее значимые для темы мифологического воплощения чувства природы произведения Г. А. Юшкова и И. Г. Торопова. Цели и задачи работы объясняют выбор методов исследования: историко-литературного, сопоставительного, описательного, типологического, на основе которых осуществляется идейно-художественный анализ произведений, выявляются связи литературы с фольклором, философией. В методике особое внимание уделяется детальному анализу произведений, адекватному авторской задаче их «прочтению», репрезентативности наблюдений и выводов. Этим объясняются пристальное внимание к тексту, последовательное использование его в качестве «иллюстративного» материала, многоуровневый анализ художественного текста в соответствии с заявленной исследовательской моделью.
Результаты исследования и их обсуждение
Г. А. Юшков и И. Г. Торопов, ратовавшие за сохранение национальной самобытности жизни, связывают благополучность исторического пути Коми края с традиционным патриархальным укладом и крестьянской духовной культурой. Размышляя о национальном миропорядке в философском плане, основу национального духа они видят в народном миросозерцании коми, порожденном языческой эпохой. Культовое отношение к миру природы позволяет прозаикам создать «авторский» миф жизни с опорой на национальные традиции мифологизирования, имеющие универсальный характер.
Писатели выступают как «мифотвор-цы», находятся в «мифологизирующем отношении к природе» [5, 263 ]. Они не просто используют отдельные мифологические мотивы и образы с определенными идейно-художественными целями, а подчиняют художественный мир произведений мифологической проекции, восстанавливая логику мифологического мышления в опоре на архетипические образы и мотивы мифа: образы мирового дерева, мифологической модели мира, мифологического времени. С принципом мифологизирующего отношения к действительности связано особое отношение авторов к самому мифу: они занимают позицию свободного мифотворчества, насыщая архетипические образы и мотивы новым наполнением, содержанием, преображая их. С учетом сказанного мы называем художественное воплощение чувства природы в прозе названных авторов мифологическим.
Включение традиционных мифологических образов, архетипов позволяет коми авторам наделить текст многослойным содержанием, пробудить глубинную культурную память. Жанры и индивидуальные сюжетные построения многих произведений являются воспроизведением базовых мифологических формул. Анализ мифопоэтического наполнения литературных текстов дает возможность выявить скрытые семантические пласты, в результате которых произведения могут прочитываться с совершенно иной точки зрения, тексты превращаются в мифологическую реальность, построенную по законам бинарных оппозиций, мифологического синкретизма и символизма. Такой анализ способствует более глубокому проникновению в художественный мир авторов.
Особым духовным пространством героев, «природной обителью» и родовым основанием человека в коми прозе второй половины ХХ в. является деревня. Действие большинства произведений происходит в доме и на подворье, жизненное пространство человека ограничено домом, деревней, окружающей природой. Подобная организация топоса реализует творческие ориентиры на восприятие человека в традиционном контексте: сакральный образ мира в ценностных рамках земледельческой культуры является важнейшей характеристикой неразрывного «единства сознания и бытия героя с почвой (народной традицией и землей)».
жается автором как гармоничное целое, слаженное единство, то финал повести трагичен: медведь, символизирующий одухотворенность природы, оказывается бессилен перед железными механизмами нового времени. С уходом медведя из леса мифологическая история природы, с которой был гармонично связан патриархальный человеческий мир, поворачивает к своему завершению; место медведя занимает человек с топором, являющийся не защитником, а истребителем природы, а патриархальный мир сменяется индустриальным. Таким образом создается универсальная оппозиция «прошлое / будущее, несущая ответы на философские, социально-нравственные, экологические проблемы, которая читается как время единства с природой / время разлада с ней, время природы / время железа, время гармонии человека и природы / время борьбы человека с природой» [9, 142 ].
Отметим, что образ топора в произведении выступает мифологическим замещением смерти и, если исходить из концепции А. Н. Афанасьева, он представляет нечистую злую силу: «…топоры… хряснули весело сизыми ладонями, они пошли гулять-целовать: куда поцелуют – там смерть… Встал на бору железный стон» [2, 39–40 ].
Образ медведя занимает видное место в традиционном мировоззрении коми, следы его почитания видны во всех жанрах коми фольклора. К. Ф. Жаков в работе «Языческое миросозерцание зырян» пишет: «У зырян существовал культ медведя. Большую любовь и уважение питают зыряне к медведю. Крестьяне по рекам Пожег и Вымь утверждают, что медведь, кроме лица, точь-в-точь как человек, что он человеческого рода и понимает языки всех народов» [11, 79–80 ].
В коми фольклоре распространено название медведя вöрса морт ‘лесной человек’. По представлениям зырян, он обладает человеческими качествами, поэтому охота на него связана с различными торжественными приготовлениями. Существует обычай после убийства медведя просить у него извинения. В «Этнологическом очерке зырян» К. Ф. Жаков описывает обряд юм сибöдöм: «Перед охотой на медведя в лесу охотники варят в котлах “юм” (сладкую кашу из ржаной муки). Этот “юм” нарочно оставляют на улице, перед “чом” (избушкой), чтобы медведь съел его, иначе охота невозможна. На другой день, увидавши, что котел пуст, охотник молчит, никому не сказывает о случившемся, иначе охота будет неудачной…»5.
Многие исследователи отмечали тотемическую основу культа медведя. «Наиболее почитаемым животным у коми был медведь», – подчеркивала В. Н. Белицер [3, 323 ]. Ф. В. Плесовский указывал на использование медвежьей шкуры в свадебной обрядности коми-зырян [21, 12 ]. Коми-пермяки до сих пор называют его «хозяином леса» [19, 15–17 ]. У финнов существует поверье, что душа зверя такая же, как у людей [20, 8 ]. Ханты верят, что он одарен божеской силой и мудростью: «…медведь был прежде человек-богатырь, который ходил часто в лес, и раз, выбираясь из лесу, хотел перелезть через колоду, сняв одежду. Перелезши он увидел одежду похищенной, а вместо того на нем выросла медвежья шерсть; однако он остался по качествам человеком и понимает человеческий язык» [6, 109 ].
Хозяина леса убивали редко, главным образом в целях самозащиты или защиты скота и посевов. У коми он считался живым воплощением лесного духа, о чем свидетельствуют фольклорные данные. В романе Г. А. Юшкова “Чугра” в данном образе воплощены представления коми о всеобщей естественной связи в природе. Героиня произведения Ревекка рассказывает сыну, что коми человек произошел от медведя.
Г. А. Юшков и И. Г. Торопов ставят в произведениях задачу воспитания человека, поэтому истории о животных, птицах, включенные в ткань повествования, мыслятся как познавательные, поучительные, они формируют эстетический и этический закон природной жизни: трава и деревья, звери и птицы, рыбы – все находятся на своем месте. Это образное воплощение формулы организации природной жизни, которая предполагает сорядовую, а не пирамидальную иерархию.
В рассказе “Висар” Г. А. Юшкова подчеркивается этический аспект в восприятии природы человеком; особенно остро ощущается трагичность разрыва между ними. Человек, убивший лося, рисуется автором как главная разрушительная сила в природе, события приобретают драматический характер, проблема «человек и природа» перемещается в философский план.
Наиболее ранней формой религии был тотемизм – вера в родство человеческого коллектива с каким-либо животным, растением или явлением природы. В основе тотемизма лежали представления о всеобщей связи в природе, в прошлом каждый род имел свою тотемную группу, состоявшую из животных и растений, с которыми он роднился и атрибуты которых хранил как символ. Одним из устойчивых образов в творчестве народов Севера и Приуралья Л. С. Грибова считает образ лося (оленя) – тотемного животного [7, 68 ]. В коми языке его называют йöра или, иносказательно, вöр-мöс ‘лесная корова’, лола ‘живой (имеющий душу)’.
Отказ от традиционных представлений в произведениях коми авторов изображается как следствие тотального отчуждения человека от природы, а оно, в свою очередь, – как мировая трагедия. Вместо рухнувшей системы ценностей новая не создается, а без этого не может быть равновесия между двумя крупными величинами земной цивилизации – природой и человеком.
В рассказ “Чомъя мусюр” («Гора, похожая на чум») Г. А. Юшков вводит описание лебедей: впереди плыли два взрослых, мать и отец, а за ними суетливой цепочкой спешили четыре неоперившихся табачного цвета лебеденка. Когда один из героев потянулся за ружьем, чтобы подстрелить самца и пополнить запасы пищи, другой запретил ему убийство, считая его непростительным грехом, ожидающим справед- ливого возмездия. У финно-угорских народов лебедь «считается птицей особенной, чистой, существует негласный запрет охоты на лебедя. Всякого, случайно или неслучайно убившего лебедя, согласно поверью, ждет кара»6. Лебедь у коми обладает ярко выраженной женской и брачной символикой. В народных сказках популярен сюжет о превращении лебедя в прекрасную девушку, на которой женится герой7.
Включение традиционных мифологических образов, архетипов позволяет коми авторам наделить текст многослойным содержанием, пробудить глубинную культурную память. Жанры и индивидуальные сюжетные построения многих произведений являются воспроизведением базовых мифологических формул.
Табуирование образа лебедя наблюдается и в фольклоре некоторых тюркоязычных народов. Например, В. Г. Родионов отмечает, что в представлении чувашей лебедь является священной птицей: «Не было на земле большего греха, чем убийство лебедя. Оно расценивалось наравне с убийством матери. Поэтому запрещалось не только охотиться, но и беспокоить их, сопровождать криком улетающих лебедей» [22, 55 ]. Якуты также боялись нанести вред своей тотемной птице, которая, по поверьям, могла вызвать болезнь или несчастье [23, 130 ]. Следы тотемистического почитания лебедя встречаются и в фольклоре монголоязычных народов. Так, в древнебурятской мифологии лебедь – прародительница племени хоринцев и рода хангинцев [18, 89 ].
Включенное Г. А. Юшковым в рассказ описание лебедей помогает понять основные идеи произведения: право человека убивать и право преследуемого им существа на жизнь, признание необходимости нравственных ограничений в охоте. Автор категорически не приемлет убийства детенышей животных. Размышляя о том, от кого и от чего зависит дело защиты природы, писатель приходит к выводу, что она может быть понята как необходимость лишь тогда, когда люди поймут это на собственном опыте или благодаря воспитанию.
К образу лебедей Г. А. Юшков обращается и в рассказе “Ловъя лов”: Тундра-ад вoйтöдлысьясыд абуöсь, да оз повны юсьясыс мортсьыд. Кöр видзьысъяс некор найöс оз вöрзьöдны, шондi вежысьясöн шуöны. Збыльыс öд, кор поводдяыс лек-мас да пыр он аддзыв шондicö, сэк лэ-бысь ли пукалысь еджыд юсьыд сэтшöма долыдмöдö сьöлöмтö, он кöсйы, да нюмыд петалас. Окота овны, сьывны на, а то и сiдз нимкодьпырысь мыйкö горöдны ывла тырнас татшöм югыд здукас.. .8. «В тундре охотников нет, да и не боятся лебеди моржей. Оленеводы никогда их не тронут, называя “заменяющими солнце”. А ведь и правда, когда погода нахмурится и долго не видишь солнца, летящий или сидящий белый лебедь так обрадует сердце, не хочешь, а улыбнешься. Хочется жить и петь, а то и просто от радости закричать во весь голос в этот светлый момент…»9.
Лебедь – символ чистоты и красоты – олицетворяет мечту о высокой любви, мечту о прекрасном человеке. В повести И. Г. Торопова “Арся сьыланкыв” мать поведала Питириму, одному из главных героев, историю о священной птице лебеде, который является украшением тундры. В повести “Тян” в роли священной птицы выступает журавль: солдат Иван рассказывает внуку о том, что предки коми никогда не охотились на журавля, в него никто не смел стрелять.
Интересы Г. А. Юшкова охватывают не только настоящее время, но и историю взаимоотношений человека и окружающей среды. В романе “Рöдвуж пас” писатель изображает современную жизнь, но обращает внимание и на ее древние формы, иллюстрируя смену эволюционных эпох. Автор вводит в произведение историю о священных деревьях, о чуди белоглазой и ее идолах, включает имена мифологических героев коми, например повелителя стужи Войпеля, отражая тем самым эволюцию представлений человека об устройстве земного мира с древности до современной эпохи.
Произведения, в которых определяющей является мифологическая форма чувства природы, невозможно представить без образа мирового дерева. В художественном мире Г. А. Юшкова роль мирового дерева отводится ели с огромными ветвями (“Рöдвуж пас”). Дерево у прозаика – сложнейшее существо: «Образ дерева складывается из отдельных особенностей: эта ель – “крепость”, “крыша родного дома” для человека, гнездо для белки. Ель – материнское дерево (по-коми мам-пу ), она возрождает лес» [4, 114 ]. Для автора ель – «мать хвойного леса», «прародительница», «королева пармы». В мифологии народов Севера ель воплощает образ мирового дерева, с ней связан и образ мировой оси, соединяющей Землю с Космосом.
По мнению В. Э. Шарапова, «образ ели в традиционном мировоззрении коми ассоциируется с наступлением осенне-зимнего периода и движением в нижний мир, связывается с представлениями о нижнем мире» [27, 127 ]. Ветви ели являются обязательными атрибутами погребальной обрядности коми.
В основе сюжетов рассказа “Тэрыб Кок”, повестей “Тян” и “Оштö эн лый кы-кысь” И. Г. Торопова лежит мотив «конца жизни» – дороги к смерти, характерной для похоронных причитаний: «Дорога к смерти – это судьба, жизнь не отдельного животного, человека, а всеобщая – природы, народа, общества в целом: исчезнут боры и их обитатели – опустеет, погибнет парма, уйдет в небытие коми охотник, знаток пармы, а вместе с ним и народ с вековечным опытом лесной жизни, пониманием зверя, птицы, рыбы, умением хлеб растить на северной земле, растворится народ в общей безликой массе…» [20, 61 ].
Гуманистический смысл во взгляде на окружающий животный и растительный мир представлен в повести “Арся сьылан-кыв” И. Г. Торопова. Повесть начинается с описания затянувшейся, хмурой, мрачной весны. Именно в такой день Питирим встречает Степана Федоровича, человека, прошедшего войну, безжалостного по отношению к миру природы, ее красоте, богатствам и дарам. В начале повести автор призывает читателя прислушаться к звуку произведения. Хотя само повествование еще не начато, коллизия еще не намечена, читатель уже улавливает общее настроение, которое определяет восприятие текста в целом. В описании затянувшейся весны ощущаются тревожное состояние повествователя, его душевное волнение. Напряжение не исчезает на протяжении всего развития действия в произведении, наоборот, оно усиливается. Природа тоже как бы предчувствует опасность, беду, разбушевавшаяся Печора предвещает катастрофу, которой придаются масштабы вселенского потрясения.
Писатель изображает в повести бунт природы, возмущенной бесцеремонным вмешательством человека. В реализации авторского замысла большое значение приобретает сон героини. Райде снится, что Печора загорелась, потому что в нее сливают все отходы, нефть. Сон, включенный в сюжет повести, вносит лирическую струю в повествование, является его неотъемлемым структурным элементом, помогает глубже понять переживания героини, ее внутреннее состояние. Сновидение эмоционально насыщенно, что подчеркивается соответствующей лексикой. Крик, плач – все это придает эмоциональную окрашенность и экспрессию. Образ пламени указывает на предстоящую опасность: огонь – это вселенская катастрофа, он включается в формулу гибели человечества. И. Г. Торопов изображает реку как живое существо, образ загрязненной Печоры и рыб одушевлен, подчинен мысли о родстве всего живого. Признак одушевленности понимается преимущественно как отсвет социальной идеи, в этой роли он и выступает в повести: пылающая Печора, кровавое зарево пожара символизируют социально-философское противостояние природа – человек, где натура, ее целесообразность, истина резко противопоставлены «царю природы» с его несправедливостью и оскорблением самого себя насилием, жестокостью.
Центральным образом, отражающим понимание писателем природы как величественной организующей силы, является образ могучей Печоры. С одной стороны, это реальная река, во множестве подробностей прописанная в пейзаже, с другой – типичный обобщенный, экспрессивно насыщенный образ. Печора в повести выступает за всю природу, осуществляет все ее возможности: «Вода представляется как организующее жизнь начало: по берегам растет растительность, живут звери, птицы, рыбы, расположены деревни. В ней диалектически примиряются стихия и порядок, изменчивость и постоянство»10. Движение воды передает движение времени, следовательно, Печора символизирует в целом идею бесконечности жизни, могущество созидательных сил природы. Образы рыб развивают характерную для картин природы тему борьбы природных созданий за жизнь, через которую писатель стремится показать то, что хотел бы видеть вокруг, – миролюбие, любовь.
Природа у И. Г. Торопова имеет «все-покоряющее» влияние, она – «невидимая космическая сила», перед которой человек абсолютно бессилен: жестоко убившего маленьких утят Степана Федоровича вместе с его добычей затягивает болото. Произведение завершается словами: « А юр весьтаныс, зэв вылын сöдз енэжас, шывкъялiс – гöгралiс сыръя борда Кöзяин да, буракö, ас ногыс сералiс» 11. «А над головой, высоко в чистом небе, бесшумно кружил Хозяин и, похоже, по-своему смеялся». Можно предположить, что ястреб – Хозяин символизирует могущество природы и призван следить за гостями лесного царства.
Коми прозаики воссоздают в своих произведениях наиболее полную картину национального быта и уникального духовного опыта народа, включая в нее часть культурного поля исторического прошлого. Они также передают мифологизированную картину мироздания сквозь призму этнического восприятия.
Заключение
Развивая идеи всеобщей жизни и разумности как основы мира, коми писатели Г. А. Юшков и И. Г. Торопов показывают, что разрыв человека с природой приводит к неполноценности бытия, к утрате чувства кровного родства всего живого, к разъединению и отчуждению людей. В этом прозаики видят одну из главных проблем, стоящих перед современной цивилизацией.
Просветительная цель произведений выражается в трагическом пафосе, реализующемся прежде всего в проблеме «природа – человек – цивилизация». Как правило, природа и цивилизация находятся в трагическом конфликте, причина которого кроется в человеке, в его потребительском отношении к окружающему миру. Коми прозаики пытаются предостеречь современное общество, основанное на утилитарно-потребительском отношении к природе, губительном и разрушительном для всех форм жизни на Земле. Особого внимания заслуживает вопрос антропоморфи-зации явлений природы в художественном мире произведений. Одухотворение природной материи в коми литературе связано с существующей в народном сознании анимистической традицией. Традиционное мировоззрение считается мало подверженным изменениям в силу сохране- ния на Севере широкой природной среды, слабой урбанизации; анимизм, пантеизм актуализируются в искусстве как средство противодействия развивающемуся мировому экологическому кризису.
Одну из важнейших проблем в коми прозе составляет мифологизация. Главным объектом изображения являются традиционные воззрения коми человека на природу, уходящие корнями в языческую эпоху. Миф для писателей – не только средство, но и способ философского осмысления жизни. Мифологизация становится частью литературной традиции, формирующей культурное сознание современного человека. Проведенный анализ свидетельствует о наличии глубинного мифологического подтекста, который проявляет себя на уровне мотивов, сюжетов и отдельных образов. В основе мифологического воплощения чувства природы Г. А. Юшкова, И. Г. Торопова лежит мифопоэтическая традиция, обладающая интеллектуальной ценностью и предоставляющая в художественном изображении мира возможность глубокого логического анализа и обобщения. Традиция мифологизации природы воплощена в художественном мире писателей как часть национальной культуры, как опыт, накопленный народом в его отношениях с природой. Данный аспект осмысления природы в коми прозе второй половины ХХ в. имеет выход к проблемам философии, экологии, нравственности, к вопросам самоопределения личности в мире, ее приобщения к национально-культурным традициям.
Поступила 26.12.2021; одобрена 18.01.2022; принята 22.06.2022.
Список литературы Культурные особенности традиционного мировоззрения коми: мифопоэтика в художественном сознании Г. А. Юшкова, И. Г. Торопова
- Андреева В. Г. Образ усадьбы и родной земли в повестях и романах А. И. Эртеля // Новый филологический вестник. 2020. № 1. С. 107–119. DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00009.
- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т. М.: Изд. К. Солдатенкова, 1865. Т. 1. 736 с.
- Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. XIX – начало XX в. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1958. 393 с. (Тр. Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия; т. 45).
- Бурилова Н. А. В поисках идеала личности: кн. ст. о герое коми прозы. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1987. 143 с.
- Вейман Р. История литературы и мифология: Очерки по методологии и истории литературы: пер. с нем. М.: Прогресс, 1975. 343 с.
- Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989. 261 с.
- Грибова Л. С. Пермский звериный стиль: (Проблемы семантики). М.: Наука, 1975. 148 с.
- Гринфельд-Зингурс Т. Я. М. Пришвин и природа. К развитию пейзажа в прозе ХХ века: моногр. СПб.: Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, 2017. 329 с.
- Гурленова Л. В. Чувство природы в русской прозе 1920–1930-х годов. Сыктывкар: СГУ, 1998. 179 с.
- Динисламова С. С. К вопросу о мифологической проблематике в творчестве Ю. Шесталова // Вестник угроведения. 2017. № 1. С. 46–57.
- Жаков К. Ф. Языческое миросозерцание зырян // Научное обозрение. 1901. № 3. С. 68–84.
- Зиявадинова О. С. Мифологическое восприятие мира природы в художественном творчестве Г. А. Юшкова, И. Г. Торопова // Пермистика 15: Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками: сб. ст. Ижевск, 2015. С. 91–97.
- Иванов И. И. Мифопоэтика в художественном сознании М. Горького // Верхневолжский филологический вестник. 2018. № 2. С. 40–47. DOI: 10.24411/2499-9679-2018-10037.
- Косинцева Е. В. Образ лебедя в хантыйской литературе // Вестник угроведения. 2016. № 3. С. 37–49.
- Лисовская Г. К. К. Ф. Жаков и его роман «Сквозь строй жизни» в мифологическом аспекте // Финно-угроведение. 2001. № 2. С. 101–105.
- Лисовская Г. К. Мифопоэтический символизм творчества К. Ф. Жакова // Вопросы финно-угорской филологии: межвуз. сб. науч. тр.: текстовое учеб. электрон. изд. На компакт-диске. Сыктывкар, 2016. Вып. 7. С. 51–55.
- Лосев А. Ф. Диалектика мифа: дополнение к «Диалектике мифа». М.: Мысль, 2001. 559 с. (Философское наследие; т. 130).
- Манжигеев И. А. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины: Опыт атеист. интерпретации. М.: Наука, 1978. 127 с.
- Микушев А. К. На таежных просторах. М.: Современник, 1986. 304 с.
- Микушев А. К. Эпические формы коми фольклора. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1973. 255 с.
- Плесовский Ф. В. Свадьба народа коми: Обряды и причитания. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1968. 320 с.
- Родионов В. Г. Этнос. Культура. Слово. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2006. 551 с. (Памятники словесности).
- Советская этнография: сб. ст. / отв. ред. С. П. Толстов. Л.: Наука. Ленингр. отдние, 1948. 344 с.
- Сязи В. Л. Образ медведя в произведениях Р. П. Ругина // Вестник угроведения. 2019. Т. 9, № 1. С. 84–92. DOI: 10.30624/2220-4156-2019-9-1-84-92.
- Сязи В. Л. Образы животных в прозе Е. Д. Айпина // Вестник угроведения. 2016. № 2. С. 65–75.
- Худенко Е. А. Реки Алтая в отечественной литературе ХХ–ХХI веков: мифопоэтика и символика // Филология и человек. 2018. № 3. С. 103–117.
- Шарапов В. Э. Ель, сосна и береза в традиционном мировоззрении коми // Эволюция и взаимодействие культур народов Северо-Востока Европейской части России. Сыктывкар, 1993. С. 126–146. (Тр. Ин-та яз., лит. и истории Коми НЦ УрО РАН; вып. 57).
- Элиаде М. Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; образы и символы; священное и мирское. М.: Ладомир, 2000. 414 с.
- Emeny R. Edward Thomas: A life in pictures. London: Enitharmon Press, 2017. 304 p.