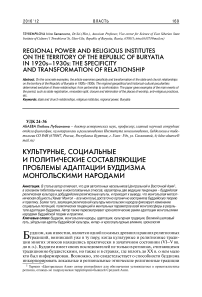Культурные, социальные и политические составляющие проблемы адаптации буддизма монгольскими народами
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 12, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье автор отмечает, что для автохтонных насельников Центральной и Восточной Азии1, в основном тибетоязычных и монголоязычных этносов, характерны две ведущие тенденции - буддийская религиозная культура и добуддийские религиозные культы, и приходит к выводу, что монгольская метаэтническая общность (Хамаг Монгол - все монголы) достаточно органично восприняла буддийскую теорию и практику. Более того, эволюция религиозной культуры монгольских народов фиксирует изменение социальных потенций, политических тенденций и ментальных параметров всей монголосферы в результате адаптации буддизма. Автор также пересматривает хронологические рамки адаптации монгольскими народами буддийской теории и практики.
Буддизм, монгольские народы, адаптация, культурная традиция, великий шелковый путь, уйгуры как адепты буддийской культуры, интер- и кросскультурные влияния, хронология
Короткий адрес: https://sciup.org/170168249
IDR: 170168249 | УДК: 24-36
Текст научной статьи Культурные, социальные и политические составляющие проблемы адаптации буддизма монгольскими народами
Буддизм, как известно, является одной из самых древних и ранних религиозных традиций, возникшей уже в ту пору, когда культурные и религиозные традиции многих этносов находились практически в зачаточном состоянии (VI–V вв. до н.э.). Буддизм имеет своих последователей не только в регионах, считающихся традиционно буддистскими, но также и в странах, где вплоть до ХХ в. о нем мало кто был информирован. Возможно, это свидетельствует о способности буддизма инкорпорировать локальные и региональные этнические религиозные традиции и выступать в качестве доминирующей религиозной культуры, ничуть при этом не ущемляя этнические достоинства разных народов. Ярким примером данного феноменального влияния буддизма и его философских, мировоззренческих и поведенческих аспектов на культуру конкретной этнической общности является монгольская метаэтническая общность, или монгольская этносфера.
Историко-культурная составляющая в контексте социокультурных взаимоотношений трансграничных регионов Центральной и Восточной Азии представлена широкой палитрой религиозных традиций в данном регионе. Для Центральной Азии, насельниками которой в основном является тибетоязычное и монголоязычное население, характерны две ведущие тенденции – буддийская религиозная культура с особой специфичной формой теории и практики и добуддийские религиозные культы и обряды, до сего времени отправляемые в данном регионе.
Центральноазиатская конфессиональная сфера достаточно разнообразна, т.к. «разбавлена» кросскультурным влиянием христианства и местных этнических религиозных традиций (бон, тэнгрианство, индуизм и зороастризм). Анализ классификационных признаков религиозных традиций свидетельствует о том, что социокультурная идентификация в данном регионе происходит скорее по конфессиональным признакам, нежели по этническим. Регион Великой степи, насельниками которой являются монгольские народы, в этом смысле достаточно традиционен, однако все же социальные, культурные и политические процессы, происходящие в регионе, свидетельствуют о трансформационном и модернизационном изменении многих религиозных обычаев в контексте адаптации буддийской теории и практики. Процесс адаптации при этом имел свои этнодифференцирующие особенности, обусловленные родоплеменными особенностями традиционных религиозных обычаев, ритуалов и верований.
Практически на протяжении всей эволюции человечества сообщества людей организовывали свои группы в основном на основе родственных отношений. Вплоть до нашего времени почти все народы, населяющие нашу планету, имеют свою четко устоявшуюся систему родства. Многие народы хорошо ориентируются в своей этнической истории, до сих пор почитают как своих реальных, так и мифических предков. Почтительное отношение к предкам, а также к основателям тех или иных религиозных культур всегда играло одну из ключевых позиций в потестарных, традиционных, а также индустриальных и постиндустриальных обществах. Как утверждают многие исследователи этнических культур, система родства в различных сообществах всегда играла важную роль как на политическом, экономическом, так и на конфессиональном уровне.
Этнические социальные организации, возникшие на тех или иных территориях, всегда строили свою систему жизнеобеспечения в соответствии не только с ландшафтными характеристиками, но и – что особенно важно – учитывая климатические условия и особенности. В результате возникают различные типы этнических культур, выработавшие свою особую хозяйственно-культурную деятельность. Говоря о религиозной культуре и имея в виду все, что создано в результате творческой деятельности этнических обществ, – первичные религиозные воззрения и ритуальные практики; мифологию, в основном базирующуюся на религиозных мотивах; искусство, которое также в начале своего возникновения носило религиозный оттенок, необходимо подчеркнуть, что весь этот сложный комплекс эволюционировал в векторе социокультурной и политической жизнедеятельности монгольского сообщества.
Религиозные традиции, созданные этническими культурами, независимо от степени эволюции самих этносов и их культурных традиций, на наш взгляд, до сих пор сохраняют доминирующие позиции. Многие элементы духовных тра- диций каждого этноса во временном пространстве, конечно же, изменялись, модернизировались и трансформировались не только в силу собственных эволюционных процессов, но и в результате кросскультурных влияний – со стороны этносов сопредельных территорий и таких феноменальных явлений, как мировые религии.
Наука – это сфера «человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания»1. В ходе своего развития наука приобретает статус социального института, основной функцией которого является получение эмпирических и теоретических знаний и их результатов. Сумма полученных знаний и результатов методами научного поиска в совокупности образует научную картину мира в той или иной области научных знаний. Буддизм, надо отметить, уже в своей основе имел собственные представления о науках. Так, например, внутри буддийской религиозно-культурной системы уже существовали «Пять больших наук» и «Пять малых наук». К «Пяти большим наукам» относились искусство, грамматика, медицина, логика, так называемая внутренняя наука, включавшая в себя махаянские дисциплины и тантру. К «Пяти малым наукам» буддисты относили астрологию, поэзию, ритмику, лексикографию и драматургию. Непосредственной целью европейской и российской академической науки прежде всего является описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности, происходящих в социуме, природе, окружающей среде и вокруг них. Столь развитое религиозно-философское учение, каковым, естественно, является буддизм, имеет свои собственные взгляды на происхождение мира, его смысл и строение, место в нем конкретного человека, вырабатывая тем самым собственное мировоззрение индивида. Понимание картины мира, выработанное столь мощной религиозной культурой, как буддизм, при встрече с традиционным представлением о строении мира кочевой религиозной культуры народов Центральной Азии, в т.ч. и монгольских, образует уникальную и оригинальную религиозную традицию, основанную на их синтезе [Абаева 2014: 95].
В сознании общества и конкретной личности на рубеже тысячелетий наблюдается деградация позитивного общественного идеала, выразившаяся в интеллектуальной растерянности и апатии. При этом социокультурная нормативность современного общества имеет тенденцию, исторически и генетически вполне объяснимую, к некой миграции – или внутри своей собственной этнокультурной среды, или связанной с полной сменой этнокультурных ареалов. Фиксируются также миграционные потоки с континента на континент. Так, например, монгольские этносы традиционно кочевали не только внутри своих родных кочевий (нутугов), что было четко зафиксировано степными законами и уложениями, но иногда пересекали и разрывали границы своих сопредельных сородичей, создавая тем самым некие этнотерриториальные потоки внутри огромных пространств Великой степи, где традиционно все монгольские этносы считались автохтонными.
Как известно, китайский император Ву Ди еще в 138 г. н.э. послал своего сановника Чжан Цина на запад в поисках союзников против гуннов. Путь Чжан Цина на запад занял у него 10 лет, обратный путь – 2 года. Именно Чжан Цин открыл для Китайской империи Западный край, т.е. страны Средней Азии. В результате его путешествия Великий шелковый путь стал двусторонним: дорога с запада из стран Средиземноморья в Среднюю Азию, разведанная и пройденная еще эллинами и македонскими воинами в процессе их походов, а другая с востока – из Китайской (Ханьской) империи в ту же Среднюю Азию. В столице Кушанской империи того времени Дальверзинтепе, через которую также пролегал Великий шелковый путь, найдены многочисленные обломки буддийских атрибутов. Кроме того, там же археологи обнаружили буддийский монастырь и святилище, которые датируются I–III вв. н.э. В центре святилища была расположена буддийская ступа, около нее найдены реликты огромной скульптуры Будды. При раскопках были обнаружены многочисленные статуи различных бодхисатв и других персонажей буддийского пантеона. Нельзя не отметить и знаменитый буддийский комплекс в Каратепе, расположенный на правом берегу Амударьи. Так, Г. Вахидова отмечает: «Каратепе – это монументальный культовый буддийский центр наземно-пещерного типа, датируется I–III веками нашей эры. Он состоит из нескольких храмово-монастырских комплексов, а также пещерных помещений, расположенных в холмах и наземных постройках. Храмовый комплекс на Каратепа является одним из самых древних сохранившихся буддийских пещерных монастырей» [Вахидова 2014: 49]. При этом многие исследователи отмечают, что этот буддийский монастырский комплекс является достаточно оригинальным и уникальным с исторической и искусствоведческой точек зрения.
Как видим, вдоль Великого шелкового пути было очень много буддийских памятников, свидетельствующих не только о проникновении буддийской теории и практики непосредственно из северной Индии, но и о действующих буддийских монастырях, датированных I–III вв. н.э. Ведь от момента проникновения буддийской религиозной культуры вдоль Великого шелкового пути до появления буддийских монастырей и комплексов должно было пройти немало лет и даже веков. Не известно достоверно, с какого времени монгольские народы были втянуты в экономические, политические и социальные процессы вдоль Великого шелкового пути. Четко фиксируется лишь тот факт, что северная часть монгольской метаэтнической общности была более активно задействована в этих процессах по сравнению с центральной и южной частями.
Мы бы хотели также остановиться на хронологической проблеме адаптации монгольскими народами буддийской теории и практики. Наша гипотеза состоит в том, что, возможно, с буддийской культурой многие монгольские народы были знакомы через интеркультурные связи с религиозной культурой уйгуров, которые уже в VIII в. н.э. считались адептами буддизма. Уйгуры исторически проживали в Таримской долине, ограниченной горными системами Тянь-Шаня и Каракорума; в Джунгарии, в долине реки Или; в районах, примыкающих к Иртышу и Балхашу; в Южной Сибири, в долинах рек Селенга, Орхон, Тола, Керулен, и на севере современных провинций Китая Шаньси и Шэнси [Тургун Алмас 2008: 23]. В современной административной структуре КНР имеется Синцзяно-Уйгурский автономный район, основная масса насельников которого на современный период являются адептами ислама. Но мы говорим об уйгурах, бывших уже в VIII в. последователями буддийской теории и практики. Некоторые буддийские источники впервые переводились на монгольский язык именно с уйгурского, а не с тибетского, как утверждают многие исследователи. На наш взгляд, именно уйгурский вариант буддийской теории и практики был в свое время знаком некоторой части монгольских народов, особенно их северному ареалу. Общеизвестно, что «Лотосовая сутра» была переведена на письменный монгольский в ХIV в. По двум фрагментарным данным, найденным при тур-фанских раскопках, было зафиксировано, что они представляли собой именно уйгурский вариант письма, как утверждает японский исследователь Хигучи Коичи [Higuchi Koichi 2014: 5]. Фрагменты турфанских рукописей достаточно неоднородны по содержанию – они или слишком короткие, или достаточно длинные. Перевод самого объемного из них был опубликован с факсимиле, транслитерацией и комментариями В. Радловым в 1911 г. в Bibliotheka Buddhica
XIV в. в Санкт-Петербурге [Higuchi Koichi 2014: 5]. Все фрагменты переведены с китайской версии. По мнению Хигучи Коичи, уйгурские источники в основном переведены с китайской или согдийской версии, а с тибетского языка переводы очень редки, если они вообще есть [Higuchi Koichi 2014: 6]. Уйгуры имели также собственную интерпретацию буддийских источников.
Преемственность наиболее общих парадигм религиозной культуры монгольских народов и их историческая устойчивость диалектически сочетались с процессами ее поступательного развития, в котором опыт предыдущих стадий, все его достижения не отбрасывались, а сохранились и синтезировались в целостную систему религиозного сознания и поведения. Одной из высших стадий эволюционного развития религиозной культуры этого региона, несомненно, является система религиозных традиций, сложившаяся в результате синтеза тибетской и уйгурской формы буддизма с традиционными верованиями, культами, обрядами и обычаями тибетского и монгольских народов Внутренней Азии.
Статья выполнена при поддержке гранта международного конкурса РГНФ-МОН «Постсоветское общество и буддийская Сангха: социорелигиозные процессы в России и Монголии». Проект № 15-23-03002.
Список литературы Культурные, социальные и политические составляющие проблемы адаптации буддизма монгольскими народами
- Абаева Л.Л. 2014. Буддизм в контексте письменной культуры монгольских народов. -Власть. № 8. С. 94-99
- Вахидова Г. 2014. Путешествие в древний, таинственный мир буддизма Средней Азии. -Материалы международной конференции «Буддизм в изменяющемся мире». 28-31 мая. Улан-Удэ. Доклады в авторской редакции. Улан-Удэ. С. 45-52
- Тургун Алмас. 2008. Уйгуры. 2-е изд. Алматы: ИД «МИР». 510 с
- Higuchi Koichi. 2014. How were Mongolian versions of the Lotus sutra translated, compiled and transmitted: through examination of the Turfan fragments. -The materials of the Permanent PIAC Conference in 2014. Vladivostok. P. 4-6