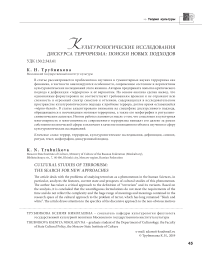Культурологические исследования дискурса терроризма: поиски новых подходов
Автор: Трубникова К.Н.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 1 (87), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблематика изучения в гуманитарных науках терроризма как феномена, в частности анализируются особенности, современное состояние и перспективы культурологических исследований этого явления. Автором предпринята попытка критического подхода к дефиниции «терроризм» и её вариантам. На основе анализа сделан вывод, что однозначные формулировки не соответствуют требованиям времени и не отражают всю сложность и огромный спектр смыслов и оттенков, содержащихся в исследовательском пространстве культурологического подхода к проблеме террора, долгое время остававшейся «чёрно-белой». В статье акцентировано внимание на специфике дискурсивного подхода, обращающегося к неочевидным мотивам терроризма, а также его мифографии и ритуальносимволическим аспектам. Итогом работы становится мысль о том, что смысловая и культурная многомерность и многозначность современного терроризма выводят его далеко за рамки собственно политической сферы и включают в качестве полноценного объекта изучения в сферу культурологических исследований.
Террор, терроризм, культурологические исследования, дефиниция, символ, ритуал, текст, мифография, дискурсивный подход
Короткий адрес: https://sciup.org/144161253
IDR: 144161253 | УДК: 130.2:343.61
Текст научной статьи Культурологические исследования дискурса терроризма: поиски новых подходов
В начале XXI века, когда весь мир так или иначе пронизан и озабочен глобализационными процессами и связанными с ними проблемами, терроризм, как и сто лет назад, остаётся одним из самых серьёзных цивилизационных вызовов, хотя и изменившим в современных условиях многие свои характеристики, но не ставшим менее серьёзным и менее опасным. Напротив, мы с полной уверенностью можем говорить о том, что борьба с терроризмом на всех уровнях приобретает сегодня особое значение, затрагивая даже те сферы, которые никогда ранее специалисты не ассоциировали с проблематикой террора либо не придавали им должного значения в соответствующем аспекте.
Следует отметить (и в свете вышесказанного это вполне объяснимо), что в современных гуманитарных науках не существует общей историко-культурологической (её можно также назвать культурно-антропологической) теории терроризма: нет удовлетворительного объяснения или классификации причин и мотивов происхождения, нет анализа форм существования, только намечаются попытки разработки специального тезауруса, а следовательно, нет и глубоких прогнозов в отношении искоренения этого явления. Кроме того, если задаться целью сформулировать проблему, следует сказать и о том, что очень мало исследований, посвящённых взаимосвязям терроризма и цивилизационных процессов, терроризма и изменений социальной сферы, терроризма и коммуникаций и т.п.
Если пристально вглядеться в разноголосицу подходов к проблеме и определений интересующего нас феномена в гуманитарной сфере, сразу же удивит то, сколь разнородны явления и процессы, объединённые термином «терроризм». По мнению многих ведущих экспертов в данной области, именно отсутствие согласия в том, что понимать под террором и терроризмом, и преграждает путь к созданию общей теории и истории терроризма как феномена. Исследователи достаточно давно пришли к выводу, что определений слишком много, и они зачастую противоречат друг другу, что необходимо покончить с понятием «терроризм как таковой» и говорить, скорее, о «террориз-мах» [см., например: 13, р. 9], подобно тому, как уже говорится о «национализмах» вместо одного «национализма» [1]. В частности, это ещё в 80-х годах прошлого века отмечал итальянский правовед Антонио Кассе-зе, предложивший вариант типологии террористической деятельности (включающий четыре её разновидности), основанный на мотивах и целях [11, р. 12]. Кассезе подчёркивает, что говорит о разных «террориз-мах». И хоть на сегодняшний день данную типологию можно назвать устаревшей, мы приведем её в качестве примера, прежде чем перейти к анализу определений терроризма в исторической перспективе.
-
1. Терроризм, движущей силой которого является идеология. Это деятельность террористов, заявляющих о своей принадлежности к марксистской идеологии (РАФ в Западной Германии, «Красные бригады» в Италии и т.д.), исламских фундаменталистов, другие религиозные течения экстремистского толка.
-
2. Терроризм, имеющий целью достижение национальной независимости. Эту разновидность составляет террористическая деятельность, направленная на изменение статуса этнических групп внутри суверенных государств (ИРА в Северной Ирландии, баскские сепаратисты в Испании и другие).
-
3. Терроризм «во имя самоопределения народов». Это деятельность Африканского Национального Конгресса, Организации Освобождения Палестины и других национально-освободительных движений.
-
4. Терроризм вооружённых групп и движений, борющихся против репрессивных режимов.
Обратившись за примерами дефиниций исследуемого объекта только к самым известным словарям, мы получим ряд противоречивых формулировок, которые, скорее всего, покажутся неудовлетворительными в современном контексте.
Так, В. И. Даль ещё в первой половине XIX века даёт следующее определение: « Терроризм – устращивание, устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства» [2, с. 393], а в актуальной редакции толкового словаря С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой читаем: « Террор – 1) устрашение своих политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения, убийства, по отношению к политическим противникам; 2) жесткое запугивание, насилие… Терроризм – политика и практика террора» [6, с. 796].
Кроме словарных, в настоящее время можно выделить множественные определения терроризма, данные представителями науки, сотрудниками органов борьбы с терроризмом, самими террористами, а также сочувствующими их точке зрения.
Авторитетный западный исследователь проблемы, редактор журнала “Perspectives of terrorism” Алекс Шмид в первом издании фундаментальной работы «Политический терроризм: методика исследования» на более чем ста страницах проанализировал имеющиеся в его распоряжении определения терроризма, уделив каждому не менее страницы, надеясь таким образом выделить наиболее глубокое и охватывающее все ракурсы явления. Спустя несколько лет, во второй редакции исследования Шмид писал, указывая на то, что ещё не приблизился в полной мере к цели исследования: «... поиск точного определения термина по-прежнему продолжается» [14, р. 5–6]. Как утверждает коллега Шмида – А. Гельке, к 1990-м годам понятие терроризма стало настолько растяжимым, что практически нет предела тому, что можно назвать этим словом [12, р. 1].
Например, формулировка ФБР, организации, непосредственно призванной бороться с террором, рассматривает террористический инцидент «как акт насилия или другой опасный для человеческой жизни акт, нарушающий уголовные законы Соединённых Штатов или любого другого государства и направленный на устрашение или оказание давления на правительства, гражданское население или его часть ради осуществления политических или социальных целей» [цит. по: 3, с. 9].
Если же мы предоставим слово самим сторонникам террористических действий, услышим приблизительно следующее: «… Террор есть то единственное ору- дие, против которого у правительства нет средств для борьбы … террор идёт впереди, как показатель накопленной народом революционной энергии, готовой прорваться наружу» [8, с. 5–6]. В Ирландии в 1882 году, когда аграрный терроризм ворвался в городскую жизнь, ошеломив обывателей громким убийством в дублинском Фи-никс-парке Главного секретаря по делам Ирландии лорда Ф. Кавендиша и его референта Т. Берка, один из активистов террористической организации неофениев «Непобедимые» Мак Кафферти писал: «Терроризм – это законное оружие слабых против сильных» [4, с. 78].
Приведённые рядом, эти формулировки наглядно говорят нам о том, что в наше время даже одна только фраза «для одного человека – террорист, а для другого – борец за свободу» отражает всю сложность и огромный спектр смыслов и оттенков, содержащихся в поле культурологического подхода к проблеме террора, долгое время остававшейся «чёрно-белой». Таким образом, какова бы ни была методологическая парадигма серьёзного гуманитарного исследования, можно констатировать, что одномерные определения уже не поддерживаются самой реальностью мира как таковой в целом и процессами новейшей истории в частности. Говоря другими словами, появилось так много исключений из правил, что стали необходимыми поиски новых правил, которые, возможно, смогут подойти ближе к объяснению того, почему и каким образом террор до сих пор остаётся неотъемлемой частью репертуара современной культурно-политической сцены. Так, например, российский социолог Э. А. Паин, долгое время руководивший центром по изучению ксенофобии и предотвращению экстремизма Института социологии РАН, предложил вообще развести понятия «тер- рор» и «терроризм», подразумевая, соответственно, в первом случае нелегитимное государственное насилие, во втором – «разновидность политического экстремизма в его крайнем насильственном варианте», совершаемого «группой или … отдельным индивидом» [7, с. 114].
Наш экскурс в историю определения крайне ограничен рамками статьи, тем не менее даже в этом случае становится ясно, что для понимания культурных корней и характеристик такого явления, как терроризм, важно осмысление конкретных особенностей исторического времени и социокультурного пространства: контекстов, традиций, символов, кодов, идеологий и т.п. Необходимы семантические и дискурсивные «зеркала», выявляющие те глубинные искажения хорошо знакомых и казавшихся правильными структур, которые способствуют рождению террора.
Современные исследования терроризма, базирующиеся на принципах культурологической методологии, должны осторожно относиться к проторенным тропам и клишированным бинарным оппозициям («свои – чужие», «порядок – хаос» и т.д.), на которых чаще всего выстраиваются концепции терроризма так, как они видятся с точки зрения интересов государственной безопасности (предотвращение терроризма и борьба с ним). Именно этот подход по преимуществу замещает собой научное понимание терроризма как исторически сложного социокультурного явления.
«“Террор” – способ управления социумом посредством превентивного устрашения», – кратко и ёмко определяют предмет своего исследования современные культурологи М. П. Одесский и Д. М. Фельдман [5, с. 8]. Мы не склонны рассматривать это определение как отвечающее всем необходимым требованиям, но оно содержит два важных, если не ключевых, для рефлек-сируемой проблемы слов́ а – «управление» и «социум». Они указывают, на что претендует и чем «питается» терроризм.
В связи с этим обратимся к авторам одной из наиболее признанных на Западе концепций терроризма. Дж. Зулайка и У. Дуглас [17], предлагая дискурсивный подход к феномену терроризма, отмечают существование табу на обсуждение социальных (в отличие от военных или политических) источников терроризма. Они объясняют это тем, что в противном случае пришлось бы признать наличие истоков и корневых систем терроризма в самих устоях и традициях современного общества, в его истории и культуре.
Дискурс терроризма, как бы ни казалось это парадоксальным, рассеян в письменной культуре, несмотря на очевидно упорядочивающую функцию письма. Любой соответствующий нарратив (скажем, об Александре Ульянове), от анекдота до параграфа учебника, – это не просто дискурс о каком-то противостоянии, битве, идеологической борьбе, героизме; это также всегда дискурс, ведущий кого-то в бой, будоражащий чьи-то эмоции, чувство справедливости, любовь и ненависть, определяющий горизонты воспринимающего, выстраивающий иерархию и диалектику признания в том или ином сообществе. Зачастую только от текста зависит, будет ли действие персонажа расценено как подвиг или как насилие. То, что в одном тексте – освободительная борьба против тирании, в другом – преступные действия против закона и порядка. Повествование способно превратить обыкновенного бандита в национального героя, избранника бога, подражающего легендарным предкам, и наоборот. Общеизвестно, что якобинцы называли террор «великолепным революционным средством», а себя – террористами, придавая этому слову самые положительные смыслы; в устах же их противников эпитет «террорист» был равен понятиям «убийца», «преступник».
Таким образом, получается, что при дискурсивном подходе мы сталкиваемся с такими вещами, как достаточно гибкая и перманентно формирующаяся мифография терроризма и его символоориентированность.
Безусловно, границы мифографического поля терроризма довольно широки и расплывчаты: от библейских преданий и откровенной провокативной выдумки до адаптаций и трансформаций реальных событий. В рамках данной мифографии могут в любое время оказаться различные тексты, жанры, сюжеты и т.п. При этом даже неважно будут они приняты за правду или нет. Важно лишь то, что, педалируя определённые «болевые точки», они в какой-то момент сработают как триггеры, запускающие нужный механизм. Мифография встраивается сразу в тело культуры, в первую очередь эксплуатируя её историческое содержание – легенды, идеи, символы, текущие события – словом, всё то, что позволяет ма-нифестативному действию обрести опору в слове и образе, прежде чем явить себя обществу.
Американский писатель и литературовед Кеннет Бёрк в программной работе «Грамматика мотивов» (1945) [10] писал, что любое символическое действие (а Бёрк отмечал, что террористический акт по своей природе всегда претендует на роль символического действия ) представляет собой совокупность элементов так называемого драматургического пентаэдра, включающего собственно действие, сцену, действующее лицо, средства и цель действия.
В каждом действенном акте человек, согласно Бёрку, пытается контролировать всю совокупность элементов, правда, это возможно только в идеале. В реальной же ситуации согласованность причин, элементов и действий внутри «пентаэдра» практически невозможна, поскольку подчинена ряду факторов, конфликтующих друг с другом, случайных и т.п. Понимаемый и декларируемый как символическое действие, терроризм выдвигает на первый план коммуникативную функцию, обращаясь к социуму, но при этом не рассчитывая на диалогические взаимоотношения, а опираясь на агрессивную монориторику.
Последователь Бёрка, австралийский учёный Г. Уордлоу, развивая эту идею, настаивает на том, что террор сам по себе ещё не есть терроризм. Для того чтобы он им стал, террор должен выступить как символическое действо при помощи экстремальных средств, связанных с угрозой или непосредственным применением насилия, воздействующего на политическую ситуацию: «Такие действия предназначены для создания повышенного беспокойства и / или страха у целевой группы больше, чем у непосредственных жертв, с целью принудить эту группу к выполнению своих политических требований» [16].
Приведём слова одного ирландца, ярко выразившего символическое значение терактов подобного рода. Рассказывая о неудачном покушении на британского представителя властных структур в Ирландии в 1919 году, прямым или косвенным участником которого он, видимо, был, автор текста сообщает, что намеченная жертва представляла собой «корпоративный символ британского правления в Ирландии ... не просто человек, но институт, дьявольский институт английского господства на нашей земле. Он был главной фигурой, представлявшей британскую тиранию в Ирландии, и именно поэтому мы хотели его уничтожить ... Мы полагали также, что этим убийством привлечём внимание всего мира к ирландской несчастной судьбе, к её доблестной борьбе против мощи огромной империи, к правде о том, что, несмотря на кровавую войну в Европе за свободу малых наций, Ирландия по-прежнему остаётся пленником в паутине Британской империи» [15, р. 110].
Таким образом, согласимся с оценкой современного исследователя: «символический терроризм как одно из самых эффективных средств современной войны наце- лен не на максимальное количество жертв, а на максимальный “спецэффект” (театральность) от семиотического ущерба» [9, с. 146].
Терроризм эпохи, в которой мы живём, как бы страшно это ни звучало, смотрит на мир не с позиции некой отстаиваемой умозрительной идеи, он предпочитает активное взаимодействие с живой реальностью, при этом учитывая, насколько сильно эту актуальную реальность волнуют история, мифология и ритуал. Открытые, отзывчивые и гибкие мифографические системы культуры, её дискурсы, высказывания, формы представляют собой в равной степени инструментарий как терроризма, так и борьбы с ним.
Не следует забывать и о том, что творцы современного терроризма (в отличие от большинства его исполнителей) получили столь же хорошее образование, что и его исследователи. Поэтому теоретики террористической деятельности уверенно пользуются плодами гуманитарных наук, опираясь и на принципы ролевого поведения Дж. Мида, и на концепцию «символического взаимодействия» Т. Парсонса, и на психоаналитические выкладки по поводу латентных смыслов в языке, речи, деятельности и т.п.
Резюмируя всё сказанное выше, мы приходим к выводу, что, исследуя терро- ризм, мы должны рассматривать его не как хорошо видимый глазом объект, поддающийся всевозможным измерениям, в том числе и однозначному дефинированию, а как перманентно изменяющуюся, динамическую систему, доступную лишь в многократном преломлении зеркальных отражений. Побудительные мотивы, пусковые ме- ханизмы, формы террора, то есть вся его семиотическая картина, объективно говорят о смысловой и культурной многозначности этого явления, выводящей его далеко за рамки сугубо политического и включающей в качестве полноценного объекта изучения в сферу культурологических исследований.
Список литературы Культурологические исследования дискурса терроризма: поиски новых подходов
- Абашин С. Н. Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности: [монография] / Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая. Санкт-Петербург: Алетейа, 2007. 302 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 томах. Москва: Рипол классик, 2006. Том 4. 672 с.
- Метелев С. Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: монография. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 275 с.
- Мирошников А. В. Ирландия и фении, 1850-1860. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1995. 214 с.
- Одесский М. П., Фельдман Д. М. Поэтика террора и новая административная ментальность: очерки истории формирования: пособие по спецкурсу / [Российский государственный гуманитарный университет, Историко-филологический факультет]. Москва: РГГУ, 1997. 202 с.