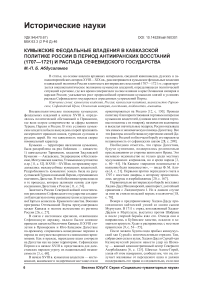Кумыкские феодальные владения в кавказской политике России в период антииранских восстаний (1707-1721) и распада сефевидского государства
Автор: Абдусаламов Магомед-Паша Балашович
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 т.16, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье, на основе анализа архивных материалов, сведений кавказоведов, русских и западноевропейских авторов ХVIII-ХIХ вв., рассматриваются кумыкские феодальные владения в кавказской политики России в контексте антииранских восстаний 1707-1721 гг.; характеризуется внешнеполитическое положение кумыкских владений, определявшееся политической ситуацией в регионе, где все время соперничали за свое влияние в крае Османская империя и царская Россия; указывается рост пророссийской ориентации кумыкских князей в условиях распада Сефевидского государства и агрессивных устремлений Порты.
Кумыкские владения, Россия, кавказская политика, шамхальство тарковское, сефевидский иран, османская империя, восстания, подданство, аманаты
Короткий адрес: https://sciup.org/147151118
IDR: 147151118 | УДК: 94(470.67) | DOI: 10.14529/ssh160301
Текст научной статьи Кумыкские феодальные владения в кавказской политике России в период антииранских восстаний (1707-1721) и распада сефевидского государства
Внешнеполитическое положение кумыкских феодальных владений в начале ХVIII в. определялось политической обстановкой в Прикаспии, где вели острое соперничество за сферы влияния Турция, Персия и Россия. В этих условиях кумыкские владетели были вынуждены порой признавать сюзеренитет иранских шахов, турецких султанов и русских царей. Но эта зависимость носила скорее номинальный характер.
Кумыкия — территория населенная кумыками, была раздроблена на ряд бийликов — княжеств: 1) шамхальство Тарковское, владения Засулакской Кумыкии — Аксаевское, Эндиреевское и Костеков-ское, Мехтулинское ханство, Утамышское султанство и др. [ 11, с. 52]. В XVII—XVIII вв. по-прежнему продолжались междоусобицы кумыкских владетелей. Раздробленность кумыкских земель была на руку султанской Турции и шахской Персии, стремившихся подчинить Дагестан. В этой обстановке происходили и те процессы, которые заложили основу для присоединения Дагестана к России [ 11, с. 54].
Занятость России Северной войной и постепенное разложение Сефевидского государства создавали благодатную почву реваншистским устремлениям Порты и ее вассала- Крымского ханства. Военная программа Оттоманской Порты предусматривала захват Кавказа и полное вытеснение из региона России [ 26, с. 27].
В связи с системным кризисом, охватившим Сефевидскую державу, падало былое влияние иранских шахов на Восточном Кавказе. В ХVIII столетии в Приморском и Юго-Западном Дагестане по-прежнему сохранялись возведенные персами в период их могущества крепости с воинскими гарнизонами. Как и прежде, персидские шахи смотрели на Дагестан как на свою территорию. Сефевидская Персия и в начале ХVIII в. представляла для дагестанских народов угрозу их национальной независимости [ 3, с. 60].
В начале ХVIII в. кумыкские владетели — косте-ковские, аксаевские и эндиреевские все чаще стали ориентироваться на Россию [12, с. 130]. Проводя политику благоприятствования торговым интересам кумыкских владетелей, (снижая или отменяя торговые пошлины с их товаров), назначая им жалованье и высылая значительные подарки, Россия оказывала тем самым и экономическую помощь Дагестану. Все эти факторы способствовали упрочению связей Дагестана с Россией и облегчали борьбу его народов за независимость от сефевидских шахов [28, с. 209].
Необходимо отметить, что горцы Дагестана, будучи суннитами, подвергались религиозным преследованиям со стороны шиитского Ирана. Это вызывало недовольство не только среди местных мусульманских клерикалов, но и среди народа [ 3, с. 60—61]. На Кавказе «народное недовольство и волнение были повсеместно», — писал Ф. М. Алиев [ 4, с. 21]. Первыми против персидского гнета в 1707 г. восстали джарцы, к которому присоединились цахурцы и азербайджанцы [ 20, с. 167].
Первоначально антииранскую борьбу возглавил Хаджи-Дауд Мюшкюрский, авантюрист, достойный сравнения с Лжедмитрием I. Но в данном случае за ним не стояли польский король и шляхтичи [ 18, с. 70].
Вскоре к предприимчивому Хаджи-Дауду присоединился кайтагский уцмий со своим сыном Муртузали. В 1711 г. отряд, возглавляемый Хаджи-Даудом и Муртузали, выступил против Шабрана и после упорной борьбы взял его. Отсюда они и направились в Кубинское ханство, осадили и захватили крепость Худат и расправились с местным правителем [ 9, с. 54—55].
После захвата Худата сюда прибыл казикумух-ский хан Сурхай с многочисленным отрядом. Там, собрав свои силы в кулак, Хаджи-Дауд и Сурхай-хан Казикумухский решили нанести удар на Шемаху — важный административный центр Северного Азербайджана [6, с. 125]. Шамхал Адиль-Гирей, узнав об этом намерении, сообщил им, что он, получает жалованье от персидского шаха и должен поддерживать его права и следовательно, если они пойдут на Шемаху, то он совершит нападение на их собственные владения [6, с. 125]. Однако угрозы шамхала не оказали отрезвляющего действия на повстанцев.
В 1711 г. это разношерстное войско осадило Шемаху, но не смогло его взять. Не достигнув цели, повстанцы вынуждены были отступить. Через некоторое время антиперсидское восстание пошло на убыль. Сурхай-хан возвратился в свою резиденцию-Кази-Кумух, а Хаджи-Дауд угодил в Дербентскую тюрьму, откуда ему удалось бежать только в 1719 г. [ 19, с. 69—70].
Неудача повстанцев объяснялась тем, что они действовали разрозненно. Руководители восстания преследовали только свои личные цели и были далеки от народных масс.
На рубеже 20-х гг. ХVIII в. дагестанские феодалы, владения которых были близки к южным рубежам России, находились с ней в тесных торговоэкономических связях. Они постепенно склонялись на сторону России, отправляли в Москву своих послов с просьбой принять их в подданство [ 10, с. 104—105]. В сложившейся обстановке крайнего ослабления Ирана признание шахом Адиль-Гирея шамхалом не могло иметь особого значения. Правильно оценив соотношение сил между Персией и Россией, шамхала Тарковский последовательно шел на сближение с царским двором вопреки угрозам шахских властей лишить его титула шамхала [ 27, с. 49—50]. Шамхал Адиль-Гирей в письме к шаху писал, чтобы ему отправил денег и войско, в противном случае грозя обратиться за помощью к русскому царю, «…и он де… может пожаловать мне своих воинских, что де я могу с ними (Дауд-беком и Сурхай-ханом — М.-П. А. ) управитца» 11. По свидетельству И.И. Голикова, шамхал Адиль-Гирей «... видя с стороны Шахской худые распоряжения и слабость, обратился к Российскому Монарху, отдая себя в подданство... Его Величества...» [ 14, с. 218]. Аналогичное писал М. Чулков: «Как последнее возмущение в Персии началося, то хотя Шамхал и всякия меры употреблял утишить оное, но не имея к тому довольной силы, и видя, что с Персидской стороны как в хороших распоряжениях, так и в силах ослабевают, обратился к России...» [ 29, с. 475].
Русский посланник в Персии А.П. Волынский в своем журнале от 6 мая 1718 г., писал: «Ибрагим-бей говорил, что брат его Алдигирей велел ему посланнику свое намерение последнее объявить секретно, что он намерен и вовсе оставить службу шахову в надежде милости его царского пресветло-го величества и со всеми своими войсками желает также и вся фамилия его служить царскому величеству против всех его величества неприятелей, куда ему повелит и ежели его величество изволит ему повелеть, то он Алдигирей будет трудитца, чтоб и других из дагестанских или из горских владетелей с войсками своими службу у его величества, так как и он приняли б»2.
В 1717 г. шамхал Адиль-Гирей обратился к России с просьбой: «Понеже упование и надежда наша есть к вашей высокой Порте, …того ради и я, прибегая к вашему милосердию, нижайше всепокорно прошу, прежде сего отцы и прародители наши служили вам в верности и во всяких службах ваших вседушно радели, будучи в службе при Порте вашей, а ныне и я, покорный раб ваш, всегда с придержанием во услугах ваших пребывати и с союзными и друзьями вашими противитися от сердца желаю…, я от него, шаха, отложился и к вам, российскому государю, поддался и службу принял...» [23, с. 225—226].
В 1718 г. кумыкский шамхал Адиль-Гирей Тарковский вступает в подданство России [ 24, с. 26]. В ответной грамоте марта 1718 г. кумыкскому шамхалу Адиль-Гирею Будайханову Петр I писал о принятии его со всеми подвластными ему улусами в российское подданство: «Оное твое прошение милостиво усмотрели и тебя, Адиль-Гирея, под оборону нашу и подданство принимаем. И во знак тоя нашея царской милости повелели из нашей царского величества казны жалованья соболей и протчего с сим твом посланцом послать повелели, которой то тебе верно вручить, и протчее от министров наших наказанное изустное сообщить указ имеет, тако ж мы, великий государь, наше царское величество указали о хранении тебя от твоих неприятелей к губернатору казанскому и астраханскому коменданту надлежащие указы послать»3.
С аналогичной просьбой 20 апреля 1719 г. обратился посол шамхала, прибывший ко двору Петра I Мамет-бек Алыпкачев.
-
1. «Он, Адиль-Гирей, подлинно и верно поддался под сильную руку е. ц. в. и желает везде и во всяких случаях е. ц. в. служить верно, безизменно и непоколебимо и для лутчего уверения хощет послать сына своего, Касболата, в Тарки за аманата...
-
2. Ежели бы е.ц.в. позволил, где ни есть в ку-мыцких землях, или при море в Сулаке, или в Уче, построить фортецию или какой тержимент, то б он, Адиль-Гирей, был контент.
-
3. Как изволение от е. ц. в. будет ему, Адиль-Гирею, на персияны воевать сухим путем или морем, то он, Адиль-Гирей, может их вскоре покорить и привести под сильную державу е. ц. в....»4.
Вслед за шамхалом к Петру I обратились с просьбами принять их в российское подданство и другие кумыкские владетели. Чопан-шамхал Эндиреевский в 1719 г. отправил в Коллегию иностранных дел послание, в котором просил сообщить государю, что он и его окружение «служить великому государю готовы и пожитки свои, и улусы, и подданных всех под руки его величества» отдадут [ 22, с. 25].
В письме от 24 февраля 1721 г. владельцы Энди-реевского княжества Айдемир, Муртазали и Кебек к Петру I писали: «...все мы между собою совет имея вознамерились дабы нам не быть в службе другого кроме вас великого государя нашего и желаем служить верно и быть в послушании и какие будут указы и повеления от вашего величества и касающиеся до нас службы, то мы оные исправлять вседушно готовы...»1. В другом письме от 21 апреля 1722 г. астраханскому губернатору Кикину аксаевский князь Султан-Махмуд указывал, что эндиреевский владетель Айдемир желает «…быть по прежнему под протекциею Е.И.В. и хочет дать аманаты, …и я також дать рад и желаю быть в подданстве государевом по прежнему»2.
В 1720 г. отправил своих послов к Петру Великому Муртазали-шамхал Бойнакский. Он также просил принять его в российское подданство: «…объявил он Муртазалей что желает быть он под протекциею Е. Ц. В. и со всякою верностию служить и в том дает свою присягу по своему закону да сверх того дает сына Ильдара… в службу Е. Ц. В., а другова сына своево аманаты отдает же которому быть в Терке» 3. 26 августа был издан указ коллегии иностранных дел к астраханскому губернатору А.П. Волынскому, чтобы он «подлинно разведал и рассмотрел какого он (Муртазали) состояния и сколько при нем подданных людей» и чтобы с «Муртазалиевым поступал и обходился ласково, дабы от страны его царского величества не отогнать...» [ 21, с. 339]. В этих целях Бойнакскому владельцу Муртазали было «определено жалованье», которое он получал из русской казны4. Однако вскоре Муртазали Бойнакский из-за соперничества с Адиль-Гиреем Тарковским склонился на сторону Умалата Казанищенского, находившегося в подданстве персидского шаха. Казанищенский владетель Умалат не представлял особого интереса для Петра I, хотя иранский шах пытался его использовать как противовес русскофильствующему шамхалу Адиль-Гирею Тарковскому. Султан-Махмуд Утамышский, подверженный влиянию уцмия Кайтагского, напав на представителей русского посольства, занял враждебную позицию по отношении к России [ 1, с. 89].
В общей политике, проводимой Петром I на Кавказе, немаловажную роль играло заложничество — так называемая система аманатов, которая была в руках кавказской администрации гарантом политического давления и подчинения горских феодалов той внешней политике, которая проводилась вплоть до покорения Кавказа [ 22, с. 43]. Однако царское правительство, занятое войной со Швецией, не решалось присоединить к России прикаспийские области Кавказа.
Спад антииранских выступлений в 1712—1718 гг. был лишь временным. К началу 20-х гг. ХVIII в. политический кризис в Иране достиг апогея. Страна повсеместно была охвачена антиправительственными восстаниями. На восточных окраинах империи отделились Кандагар и Герат. Против персидского ига вновь поднялись азербайджанцы, армяне, грузины и дагестанцы [ 27, с. 125].
В 1720 г., используя благоприятный момент, Мир-Махмуд Афганский вступил в Иран и начал масштабное наступление на Сефевидов5. Турция стремилась ослабить Персию и в связи с этим оказывала активную поддержку афганцам, чтобы захватить закавказские провинции Ирана6.
Удачно выбрав момент, повстанцы концентрировали все силы, чтобы нанести персам сокрушающий удар. Вблизи от Шемахи повстанцами были разгромлены наголову иранские войска, отправленные на подавления данного восстания. При этом был убит шахский военачальник Гасан-хан7.
Шах Хусейн за помощью «послал одного своего чиновника Махмуд-Бега с знатною суммою денег и многими подарками» к главному дагестанскому владетелю шамхалу Адиль-Гирею Тарковскому с просьбой о присылке к нему войска [ 14, с. 52]. Шам-хал решил оказать поддержку шаху, и собрав войско, отправил его в Иран под предводительством Сурхай-хана Казикумухского. Когда Сурхай-хан с войском проходил через Ширван, то к нему примкнул Дауд-бек. Он убедил Сурхай-хана выступить против шаха и действовать заодно с восставшими8. За короткий срок Хаджи-Дауду и Сурхай-хану Казикумухскому удалось собрать несколько тысяч горцев, готовых на решительную борьбу с персами [ 9, с. 56].
В восстание включились кюринцы, табасаранцы, азербайджанцы, кумыки Мехтулинского и Эндиреевского ханств и Эрпелинского владения, жители Губдена и многие другие. Упорствовал лишь шамхал Тарковский Адиль-Гирей, пользовавшийся большим вниманием со стороны шахского престола, как защитник северной границы Ирана. Мало того, шамхал Адиль-Гирей, видя сосредоточение огромных сил восставших, угрожал им нападением с тыла, если они осмелятся вновь совершить поход на город Шемаху9. Но и на этот раз угрозы шамхала не подействовали.
-
7 августа 1721 г. повстанцы захватили Шемаху — административный центр Ширвана. Город был разгромлен, причем среди пострадавших оказались русские купцы, приехавшие в город по торговым делам [2 9, с. 74].
Беглярбек Гусейн-хан и его ближайшее окружение, а также до восьмисот человек из городской знати, укрывшиеся в главной мечети, были истреблены [ 13, с. 226]. Вблизи Шемахи повстанцами были разбиты войска гянджинского и эриванского ханов. Многие шахские ставленники, в том числе и правитель Дербента, бежали в Иран [ 15, с. 420].
Столь же критическим оказалось и положение шамхала, резиденция которого, Тарки, в противоположность Дербенту и Баку, совсем не имела укреплений. Повстанцы беспрерывно нападали на нее, не давая Адиль-Гирею покоя ни днем, ни ночью. И этот защитник дагестанского прохода с большим трудом сопротивлялся Хаджи-Дауду10.
Персы были изгнаны из Дагестана и Ширвана. Казалось, что Дагестан освободился от иноземного ига. Но возникла опасность порабощения дагестанцев Турцией. Порта, стремясь воспользоваться критическим положением Персии, готовилась к захвату ее провинций. Она намеревалась осуществить на востоке широкую захватническую программу, важное место в которой отводила овладению Кумыкской плоскостью. В условиях сложившейся непростой политической обстановки Кумыкия, будучи раздробленной на множество политических единиц, так или иначе оказалась бы неизбежно поглощенной либо Ираном, либо Турцией, или же она должна была присоединиться к России1.
Имея в Закавказье и в Персии важные экономические и политические интересы, Россия не могла оставаться безучастной к событиям на Востоке. Обстановка требовала решительных мер, среди которых на первый план выдвигалось овладение западным побережьем Каспийского моря и торговыми путями Прикаспия. Дальнейшее промедление в вопросе выступления русских войск на Северный Кавказ грозило захватом Турцией Кавказа [ 5, с. 66— 67]. Петр I не мог допустить турок к Каспийскому морю. Превращение Кавказа в плацдарм турецкой экспансии была направлена «в первую очередь против юго-восточных окраин России» [ 17, с. 46].
Заключение победоносного Ништадтского мира 30 августа 1721 г., завершившего многолетнюю войну России со Швецией, позволило Петру I приступить к реализации части восточной программы [ 8, с. 2].
Тем временем из столицы Ирана- Исфахана приходили самые тревожные вести. 8 марта 1722 г. шахские войска были наголову разгромлены афганцами у Гюльнабада [ 24, с. 27]. В такой критической обстановке иранский шах Султан-Хусейн 22 октября 1722 г. был вынужден отречься от престола. По сути, правлению Сефевидской династии в Персии пришел конец. В Иране на тот период узурпировал власть Мир-Махмуд Афганский [ 26, с. 41—42].
Сложившаяся обстановка требовала решительных мер. Поэтому Петр I приказал начать переброску войск, судов, артиллерии и всего необходимого в Астрахань для предстоящего похода на юг [ 22, с. 45]. Готовясь к походу, Петр I подтвердил принятие в российское подданство северокавказских владетелей. Особое внимание Петр I уделил шамхалу Тарковскому. Будучи валием Дагестана, т.е. главным владетелем, он играл видную роль в политических событиях, происходивших на Кавказе в первой четверти ХVIII в. Адиль-Гирей находился в тесных контактах с царским двором и пользовался личным доверием государя-императора. Было принято решение оказать поддержку шамхалу Адиль-Гирею, а Тарковское шамхальство превратить в своеобразный плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь Дагестана и дальше в Иран. Сверх того, царское правительство материально поощрило Адиль-Гирея, дабы приохотить его к более рьяной службе императору. В качестве императорского подарка ему были отправлены три тысячи рублей и на большую сумму соболей, тканей из крученого и обычного шелка [ 2, с. 4]. Принятие шамхала Тарковского Адиль-Гирея под покровительство России сыграло важную роль. По мнению И.И. Голикова, «сие обстоятельство не мало же способствовало к предпринятому Его Величеством сему трудному походу» [ 14, с. 74].
К маю 1722 г. завершилась подготовка к походу. 15 июля 1722 г. в Астрахани Петр I «издал манифест на татарском, турецком и персидском языках», который разослал «ко всем князьям и главным Вельможам Дагестанским, в которых объявлял им, что идет он не в таком намерении, чтоб овладеть их землею, ниже нанесть им войну; но только просить у них себе прохода, и что наличными деньгами станет платить за припасы, которыми будут они его снабжать» [ 18, с. 71]. В целях захвата Прикаспийских провинций рекомендовалось поступать с местным населением «с великою дружбою, дабы не подать причину туркам войско прибавить и тем наши действа труднее учинить»2.
24 июля 1722 г. «манифест был отправлен с поручиком Лопухиным в Тарки к шамхалу для разсылки в Дербент, Шемаху и Баку» [ 7, с. 66]. Одновременно, как писал русский резидент И. И. Неплюев, в Стамбуле «следует великое приготовление к войне. Посылают беспрепятственно и амуницию, и артиллерию в Азов и Эрзерум. И во всю Азию указы посланы, чтобы войска собирались». Уже во время приготовления к походу австрийский, английский и венецианский дипломаты распространяли в Стамбуле невероятные слухи о планировавшихся якобы планах Петра I овладеть Персией и всем Закавказьем, и затем начать поход против Константинополя [ 25, с. 392]. При подстрекательстве Англии, Порта предъявила свои претензии на Кабарду, Дагестан и Ширван. Турецкий визирь, угрожая войной, потребовал, чтобы российские войска покинули Кавказ [ 16, с. 59].
Несмотря на эту угрозу, российская армия во главе с Петром I в 1722 г. прибыла в Астрахань, откуда и предстояло совершить великому императору свой знаменитый Персидский поход на Восток.
Таким образом, в рассматриваемый период кумыкские феодальные владения занимали важное место в планах России на Кавказе. Покровительственная политика Петра I по отношению к кумыкским феодальным владетелям, в первую очередь шамхалу Тарковскому, была связана с планами освоения побережья Каспийского моря. Вступление кумыкских князей в российское подданство укрепило и расширило русское влияние в Дагестане. Особенно оживленные сношения с Кумыкией развились к началу 1722 г. в связи с готовившимся Каспийским походом Петра I. Обращение шамхала Тарковского к России и связи, установившиеся между Петром I и шамхалом, в значительной степени способствовали этому рискованному предприятию, поскольку Тарковское шамхальство занимало стратегически значимую позицию в Дагестане, играло активную роль в происходивших здесь военно-политических событиях, а также в экономической жизни края.
Список литературы Кумыкские феодальные владения в кавказской политике России в период антииранских восстаний (1707-1721) и распада сефевидского государства
- Абдусаламов, М.-П. Б. Кумыкские феодальные владения в политической жизни Дагестана в первой половине XVIII века/М.-П. Б. Абдусаламов. -Махачкала: ИД «Народы Дагестана», 2008. -198 с.
- Айсар, Ф. Обнадежить милостью и протекцией: /Ф. Айсар//Дагестанская правда. -1999. -С. 4-5. -7 янв.
- Алиев, Б. Г. Союзы сельских общин в борьбе за независимость Дагестана в ХVII -первой половине ХVIII в./Б. Г. Алиев, М.-С. К. Умаханов//Освободительная борьба народов Дагестана в эпоху средневековья. -Махачкала: Тип. ДагФАН СССР, 1986. -С. 55-70.
- Алиев, Ф. М. Антииранские выступления и борьба против турецкой оккупации в Азербайджане в первой половине ХVIII в./Ф. М. Алиев. -Баку: Элм, 1975. -127 с.
- Ахмадов, Я. З. Взаимоотношения Чечено-Ингушетии с Россией в ХVIII веке: дис.. канд. ист. наук/Я. З. Ахмадов. -Махачкала, 1977. -170 с.
- Бакиханов А.-К. Гюлистан и-Ирам/А.-К. Бакиханов. -Баку: Элм, 1991. -304 с.
- Бергман, В. История Петра Великого/В. Бергман; пер. с нем. Е. Аладьин. -Т. V. -СПб.: В тип. штаба отдельного корпуса внутренней стражи, 1841. -162 с.
- Богуславский, Л. История Апшеронского полка. 1700-1892 гг./Л. Богуславский. -Т. I. -СПб.: Тип. министерства путей сообщения, 1892. -518 с.
- Гаджиев, В. Г. Разгром Надир-шаха в Дагестане/В. Г. Гаджиев. -Махачкала: Мининформпечать, 1996. -260 с.
- Гаджиев, В. Г. Роль России в истории Дагестана/В. Г. Гаджиев. -М.: Наука, 1965. -391 с.
- Гаджиева, С. Ш. Кумыки: историко-этнографическое исследование/С. Ш Гаджиева. -М.: Изд-во АН СССР, 1961. -385 с.
- Гасанов, М. Р. История Дагестана с древности до конца ХVIII в./М. Р. Гасанов. -Махачкала: Дагкнигоиздат, 1997. -216 с.
- Гербер, И.-Г. Известия о находящихся с западной стороны Каспийского моря между Астраханью и рекою Курой, народах и землях и об их состоянии в 1728 г./И.-Г. Гербер//Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. -СПб.: Изд-во Имп. АН, 1760. Июль. Ч. 2. -308 с.
- Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам/И. И. Голиков. -Ч. VIII. -М.: Университетская тип., 1789. -448 с.
- История Дагестана с древнейших времен до наших дней/отв. ред. А. И. Османов. -Т. I. -М.: Наука, 2004. -627 с.
- История Кабарды с древнейших времен до наших дней/отв. ред. Н. А. Смирнов. -М.: Изд-во АН СССР, 1957. -394 с.
- Ключевский, В. О. Сочинения/В. О. Ключевский; под ред. В. Л. Янина. -Т. IV. Курс русской истории. -Ч. IV. -М.: Мысль, 1989. -398.
- Козубский, Е. И. История города Дербента/Е. И. Козубский. Темир-Хан-Шура: Русская тип. В. М. Сорокина, 1906. -468 с.
- Левиатов, В. Н. Очерки по истории Азербайджана в ХVIII в./В. Н. Левиатов. -Баку: Изд-во АН Аз. ССР, 1948. -227 с.
- Магомедов, Р. М. История Дагестана. С древнейших времен до конца ХIХ в./Р. М. Магомедов. -Махачкала: Дагучпедгиз, 1968. -340 с.
- Магомедов Р. М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана в ХVIII -начале ХIХ веков/Р. М. Магомедов. -Махачкала: Дагкнигоиздат, 1957. -408 с.
- Магомедов Р. М. Россия и Дагестан: страницы истории/Р. М. Магомедов. -Махачкала: Дагкнигоиздат, 1987. -129 с.
- Русско-дагестанские отношения ХVII -первой четверти ХVIII вв.: документы и материалы/сост. Р. Г. Маршаев. -Махачкала: Дагкнигоиздат, 1958. -336 с.
- Саламова, Н. А. Кавказ и Причерноморье в русско-турецких отношениях: от Каспийского похода Петра I до присоединения Крыма к России (1722-1783)/Н. А. Саламова, Р. И. Магомедова. -Махачкала: ИП М. А. Джамалудинов, 2010. -168 с.
- Соловьев, С. М. История России с древнейших времен/С. М. Соловьев. -Кн. IХ. -Т. ХVIII. -М.: Мысль, 1963. -435 с.
- Сотавов, М. Н. Крымское ханство в русско-турецких отношениях в XVIII в. (1700-1783) в свете влияния их на Дагестан/М. Н. Сотавов. -Махачкала: ДГУ, 2010. -169 с.
- Сотавов, Н.-П. А. Северный Кавказ в русско-иранских и русско-турецких отношениях в ХVIII в./Н.-П. А. Сотавов. -М.: Наука, 1991. -228 с.
- Умаханов, М.-С. К. Взаимоотношения феодальных владений и освободительная борьба народов Дагестана в ХVII веке/М.-С. К. Умаханов. -Махачкала: Изд-во ДагФАН СССР, 1973. -250 с.
- Чулков, М. История краткая российской торговли/М. Чулков. -М.: Тип. Пономарёва, 1788. -314 с.