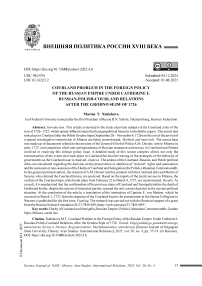Курляндский вопрос во внешней политике Российской империи при Екатерине I: русско-польско-курляндские связи после Гродненского сейма 1726 года
Автор: Накишова М.Т.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Внешняя политика России XVIII века
Статья в выпуске: 4 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Настоящая статья посвящена изучению частных сюжетов так называемого курляндского кризиса рубежа 1726–1727 гг., объединившего различные государства, имевшие геополитические интересы в Прибалтийском регионе. Реконструируются события, происходившие в Курляндии после польского Гродненского сейма (28 сентября – 9 ноября 1726 г.) накануне приезда в Митаву специальной следственной комиссии. Методы и материалы. Основу источниковой базы составили документы, относящиеся к материалам миссии генерал-полицеймейстера А.М. Девиера, отправленного в Митаву в начале 1727 г., комплексы частной корреспонденции русских государственных деятелей и посланников в Курляндии и Польше, занятых в решении данного внешнеполитического вопроса. Детальное изучение настоящего источникового комплекса позволяет не только реконструировать события, происходившие в Курляндии, но и проследить стратегии поведения правительств в целях урегулирования курляндского кризиса. Анализ. Рассматриваются действия курляндской, русской и польской политических элит относительно решения вопроса о сохранении или упразднении «древних» прав и автономий и присоединения или неприсоединения герцогства Курляндия и Семигалия к Речи Посполитой. В общеполитическом контексте анализируется миссия генерал-полицеймейстера А.М. Девиера, его контакты с курляндским рыцарством и Морицом Саксонским. На основе донесений царских посланников в Митаве реконструируются вердикты курляндского ландтага, проходившего с 22 февраля по 4 марта 1727 года. Результаты. В результате подчеркивается, что подтверждение прежнего статуса Курляндии и Семигалии до смерти Фердинанда Кетлера, несмотря на действия заинтересованных сторон, представлялось единственным верным решением в условиях сложившейся политической конъюнктуры. В приложении к статье впервые публикуется перевод инструкции капитана Э.К. фон Медема, полученной им 1 марта 1727 г. от депутатов курляндского ландтага для представления на Сенат-консилиуме в Варшаве.
Герцогство Курляндия и Семигалия, Российская империя, Речь Посполитая, Гродненский сейм, Митава, социальные связи
Короткий адрес: https://sciup.org/149149138
IDR: 149149138 | УДК: 94(470) | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.4.6
Текст научной статьи Курляндский вопрос во внешней политике Российской империи при Екатерине I: русско-польско-курляндские связи после Гродненского сейма 1726 года
DOI:
Abstract. Introduction. This article is devoted to the study of private subjects of the Courland crisis of the turn of 1726–1727, which united different states that had geopolitical interests in the Baltic region. The events that took place in Courland after the Polish Grodno Sejm (September 28 – November 9, 1726) on the eve of the arrival of a special investigative commission in Mitawa are being reconstructed. Methods and materials. The source base was made up of documents related to the mission of the General-Chief of Police A.M. Devieir, sent to Mitawa in early 1727, and complexes of private correspondence of Russian statesmen and envoys in Courland and Poland involved in resolving this foreign policy issue. A detailed study of this source complex allows not only the reconstruction of the events that took place in Courland but also the tracing of the strategies of the behavior of governments as the Courland issue is resolved. Analysis. The actions of the Courland, Russian, and Polish political elites are considered regarding the decision on the preservation or abolition of “ancient” rights and autonomies and the accession or non-accession of the Duchy of Courland and Semigalia to the Polish-Lithuanian Commonwealth. In the general political context, the mission of A.M. Devieir and his contacts with the Courland elite and Moritz of Saxony, who claimed the Courland throne, are analyzed. Based on the reports of the tsarist envoys in Mitawa, the verdicts of the Courland sejm, which took place from February 22 to March 4, 1727, are reconstructed. Results. As a result, it is emphasized that the confirmation of the previous status of Courland and Semigalia before the death of Ferdinand Ketler, despite the actions of interested parties, seemed the only correct decision in the current political situation. At the conclusion of the article, a translation of the instruction of Captain E. von Medem, which he received on March 1, 1727, from the deputies of the Courland Seymic for presentation at the Senate Collegium in Warsaw, is published for the first time. Funding. The research was carried out with the financial support of a grant from the Russian Science Foundation № 23-78-01059,
Аннотация. Введение. Настоящая статья посвящена изучению частных сюжетов так называемого курляндского кризиса рубежа 1726–1727 гг., объединившего различные государства, имевшие геополитические интересы в Прибалтийском регионе. Реконструируются события, происходившие в Курляндии после польского Гродненского сейма (28 сентября – 9 ноября 1726 г.) накануне приезда в Митаву специальной следственной комиссии. Методы и материалы. Основу источниковой базы составили документы, относящиеся к материалам миссии генерал-полицеймейстера А.М. Девиера, отправленного в Митаву в начале 1727 г., комплексы частной корреспонденции русских государственных деятелей и посланников в Курляндии и Польше, занятых в решении данного внешнеполитического вопроса. Детальное изучение настоящего источникового комплекса позволяет не только реконструировать события, происходившие в Курляндии, но и проследить стратегии поведения правительств в целях урегулирования курляндского кризиса. Анализ. Рассматриваются действия курляндской, русской и польской политических элит относительно решения вопроса о сохранении или упразднении «древних» прав и автономий и присоединения или неприсоединения герцогства Курляндия и Семигалия к Речи Посполитой. В общеполитическом контексте анализируется миссия генерал-полицеймей-стера А.М. Девиера, его контакты с курляндским рыцарством и Морицом Саксонским. На основе донесений царских посланников в Митаве реконструируются вердикты курляндского ландтага, проходившего с 22 февраля по 4 марта 1727 года. Результаты. В результате подчеркивается, что подтверждение прежнего статуса Курляндии и Семигалии до смерти Фердинанда Кетлера, несмотря на действия заинтересованных сторон, представлялось единственным верным решением в условиях сложившейся политической конъюнктуры. В приложении к статье впервые публикуется перевод инструкции капитана Э.К. фон Медема, полученной им 1 марта 1727 г. от депутатов курляндского ландтага для представления на Сенат-консилиуме в Варшаве. Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-78-01059 («Механизмы функционирования социальных связей в контексте государственного реформирования в России во второй половине XVII – начале XVIII вв.»),
Цитирование. Накишова М. Т. Курляндский вопрос во внешней политике Российской империи при Екатерине I: русско-польско-курляндские связи после Гродненского сейма 1726 года // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, №4. – С. 57–74. – DOI:
Введение. На протяжении XVI–XVIII вв. курляндский вопрос являлся одним из наиболее актуальных аспектов балтийской политики. По договору (pacta subjectionis) от 8 декабря 1561 г. 1, заключенному между польским королем Сигизмундом Августом и гроссмейстером ливонских рыцарей Готхардом Кетлером, рыцарство Курляндии и Семигалии признавало себя вассалом польского государства с правом широкой автономии.
Герцогство находилось под управлением местной династии Кетлеров, наследовавших престол по нисходящей линии. Им разрешалось содержать армию, чеканить собственную монету и вступать в дипломатические сношения. Ленная зависимость от польского престола выражалась в запрете самостоятельно объявлять войну [21]. Очевидно, что подобные отношения не могли полностью удовлетворить ни поляков, нацеленных на включение герцогства в состав своей территории, ни курляндцев, желавших самостоятельно определять дальнейшую политическую судьбу государства и сохранить протестантскую веру. Более того, ситуация осложнялась тем, что геополитические преимущества герцогства делали его привлекательным для других держав, имевших торговые и/или политические интересы в прибалтийском регионе и стремившихся распространить там свое влияние.
В начале XVIII в. курляндская проблема значительно обострилась в связи с отсутствием прямых наследников династии Кетле-ров. После смерти в 1711 г. герцога Фридриха Вильгельма остро встал вопрос об избрании нового претендента на престол и последующем сохранении или упразднении «древних» прав и автономий. В Курляндии оставалась вдовствующая герцогиня Анна Иоанновна, не имевшая наследников и не призвавшаяся как самостоятельный политический актор, а герцогом номинально числился последний представитель династии шестидесятилетний герцог Фердинанд, не пользовавшийся популярностью у курляндской элиты и проживавший в Гданьске (Данциге) под контролем Польши. В течение 1720-х гг. вокруг Курляндии развернулась ожесточенная борьба, по мере развития которой в качестве претендентов на престол выдвигалось несколько кандидатур: герцог Голштинский, принц Гессен-Кассельс-кий, князья Гессен-Гомбургские, граф Мориц Саксонский, светлейший князь А.Д. Меншиков. Наиболее заинтересованные стороны – Речь Посполитая, Российская империя, Пруссия и Саксония – предпринимали немало усилий для привлечения на свою сторону курляндского рыцарства.
В итоге 28 июня 1726 г. местный ландтаг 2 под влиянием интриг курляндского и саксонского правительств избрал на герцогский престол незаконнорожденного сына польского короля, графа Морица Саксонского [53, s. 469–472]. Этот выбор ни Речь Посполитая 3, вступившая в конфронтацию с личными интересами Августа II, ни Российская империя не поддержали. В России, оспаривая избрание Морица, продолжили продвигать на герцогский престол лояльных кандидатов (после самовольного вмешательства А.Д. Меншикова и конфликта с курляндским рыцарством кан- дидатура светлейшего князя не рассматривалась как возможная [48]), устанавливать социальные связи внутри Курляндии и вступать в союзы с другими державами. Дальнейшие действия Речи Посполитой в отношении Курляндии должен был определить Гродненский сейм, оказавший ключевое влияние на судьбу герцогства и всей курляндской политики.
Учитывая изложенное выше, целью настоящего исследования является анализ политики, проводившейся российской стороной в период наибольшего политического напряжения в Курляндии: начиная с принятия польской конституции 4 на сейме в Гродно (28 сентября – 9 ноября 1726 г.) и заканчивая началом Сенат-консилиума 5 в Варшаве (23 марта 1727 г.). Как представляется, осмысление данных событий позволит не только разобраться в хитросплетениях русско-польско-курляндских отношений рубежа 1726– 1727 гг., но и сформировать детальные представления о методах ведения внешней политики при Екатерине I, роли тех или иных деятелей в решении наиболее актуальных задач и их влиянии на государственное строительство.
Методы и материалы. Как и другие обстоятельства курляндского кризиса, русско-польско-курляндские связи рубежа 1726– 1727 гг. рассмотрены в историографии фрагментарно [1; 2; 3; 18; 42; 43; 47; 48; 49; 51; 55; 56; 57; 59; 60; 61]. Более того, если деятельность российских, польских, саксонских и прусских дипломатов в России и Речи Посполитой так или иначе изучалась исследователями (работы У. Косиньской, К. Штрома, Л. Эррена) [50; 53; 54; 58], то события, имевшие место в столице Курляндии г. Митаве, до сих пор остаются без должного осмысления и детальной реконструкции (за исключением исследования К. Кантецкого, рассмотревшего период деятельности польской комиссии в августе – декабре 1727 г.) [52]. Например, только лишь мимоходом упоминается тайная миссия генерал-полицеймейстера А.М. Девиера начала 1727 г., среди материалов которой сохранились уникальные сведения как о действиях российских дипломатов, их связях с польской и курляндской политическими элитами, так и о попытках курляндцев оспорить вердикты Гродненского сейма. Данный комплекс представляется уникальным, поскольку по объему и степени информативности (относительно событий в Митаве) во много раз превосходит известные в историографии собрания реляций П.И. Ягужинского, П.М. Бестужева-Рюмина, журналов и приговоров Верховного тайного совета и т. д.
Материалы миссии генерал-полицей-мейстера разделены между двумя архивохранилищами: реляции А.М. Девиера, его письма к кабинет-секретарю А.В. Макарову, различного рода мнения и дипломатические документы (кредитив, списки депутатов и членов комиссии, копии инструкций и пр.), а также оригиналы, копии и переводы документов, полученных от курляндских обер-ратов и депутатов, сохранились в фонде Кабинета е.и.в. (№ 9) Российского государственного архива древних актов (далее – РГАДА); оригиналы инструкций, некоторые личные послания, записные книги указам, поступавшим к генерал-полицеймейстеру от императрицы, и письмам, отправленным от него и к нему от П.М. и М.П. Бестужевых-Рюминых, А.И. Остермана, А.В. Макарова, П.И. Ягужинского, И.И. Исаева, Морица Саксонского, хозяйственные документы миссии отложились среди материалов фонда «Сношения России с Курляндией» (№ 63) Архива внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Соответственно, ценность источниковых комплексов состоит не только в том, что они позволяют судить о миссии А.М. Девиера самой по себе и личном вкладе генерал-поли-цеймейстера в решение курляндского вопроса, но и характеризуют деятельность многих других государственных деятелей, раскрывают специфику их контактов и механизмов взаимодействия, обозначают векторы развития русско-польско-курляндских отношений.
Анализ. На Гродненском сейме, длившемся с 28 сентября по 9 ноября 1726 г., курляндский вопрос являлся ключевым для обсуждений [20]. Стоит отметить, что последние месяцы до заседаний в Гродно оказались крайне напряженными. Согласно У. Косиньской, польских магнатов и сенаторов, в частности вице-канцлера Я. Липского, К. Шембека, Ю. Мнишека, М.Ф. Чарторыйского, возмущала открытая поддержка Августом II Морица Саксонского, избранного курляндским герцогом вопреки политическим интересам Речи
Посполитой [53, s. 474, 475]. Не вызвали одобрения и действия саксонских дипломатов (Я.-Г. Флеминга, И. Ле Форта) в рамках так называемого проекта двух дам, предполагавшего организацию династического брака графа с Елизаветой Петровной или Анной Иоанновной [54; 58, S. 93–95]. 16 июня под значительным политическим давлением король отправил в Курляндию указ, запрещавший проведение ландтага и какие-либо контакты с иностранными державами, желавшими вмешаться в вопросы престолонаследия. Однако курляндцы, подстрекаемые Морицом Саксонским и гетманом Л.-К. Поцеем, отклонили требования Августа II, и, как известно, ландтаг состоялся.
В результате на Гродненском сейме удалось сформировать практически единогласное мнение по курляндскому вопросу. Собравшиеся представители польско-литовской шляхты полагали, что, несмотря на определенную политическую самостоятельность, курляндцы не имели права решать династические вопросы без ведома и одобрения государства-покровителя [21, л. 221–224]. Коронный регент Я. Дунин, защищая позиции короля, отмечал, что «Его величество вельми старается о пользе народной и дал де он о том много опытов от десяти лет в том, что он приложил свои отеческие старательства для выводу иностранных войск из Курляндии, и ради содержания сей же Курляндии в древнем ее состоянии, нимало не мысля о отчюждении оной, как некоторые хотят о том внушить» [20, л. 68 об.]. Не способный противостоять сейму Август II 11 октября 1726 г. согласился издать акт, отменявший избрание Морица и требовавший от него сдачи избирательного диплома [49, p. 521–522; 58, S. 103–104; 60, S. 143–144; 61, S. 125–132]. Граф не внял указаниям отца, отказался вернуть подтверждающие бумаги, заявив о готовности защищать герцогство и свой титул. Параллельно Мориц Саксонский стремился заручиться поддержкой Российской империи, заявляя о лояльности российскому престолу, и добивался протекции А.Д. Меншикова, в том числе предлагая ему проекты по созданию в Речи Посполитой абсолютной монархии [10].
Во время Гродненского сейма позиция Российской империи, объявленная ее предста- вителями в Польше, твердо основывалась на тезисе о невозможности нарушения «древних» прав и привилегий Курляндии по собственной воле собирать ландтаг, избирать герцога и сохранять широкую автономию [53, S. 487– 488; 58, S. 105; 61, S. 124]. При этом кандидатура Морица Саксонского не поддерживалась, предполагалось продвигать своих кандидатов – герцога Голштинского или одного из братьев Гессен-Гомбургских. Согласно К. Кан-тецкому, требования царских дипломатов были проигнорированы. Так, С.-Э. Денгоф во время заседания польской комиссии в августе – декабре 1727 г. указывал, что хотя московские уполномоченные представили на сейме официальный универсал Екатерины I, они не потребовали публичной конференции, как это было принято у иностранных министров с министрами и депутатами Речи Посполитой. Более того, им был передан официальный ответ, содержавший четкую позицию сейма относительно Курляндии, на который реакции государыни не последовало (в данном случае молчание было расценено как одобрение) [52, s. 21].
В результате, как полагает У. Косиньска, принятая на сейме конституция (то есть специальное постановление, имевшее законодательную силу) оказалась значительно более строгой, чем предполагалось изначально. Собравшиеся на Гродненском сейме постановили: 1) отложить присоединение Курляндии и Семигалии к Польше и их разделение на воеводства до кончины Фердинанда; 2) аннулировать избрание Морица, объявить его «за инфама (то есть авантюриста, опозоренного человека. – М. Н.) и бандита» и принудить покинуть территорию Курляндии; 3) отправить в Митаву специальную комиссию с военным сопровождением, которой поручалось изучить проблему на месте и доложить о ней следующему сейму [53, s. 361–362, 476–493]. Спустя несколько месяцев, несмотря на сопротивления курляндской и российской стороны, были начаты приготовления к отправке в Митаву следственной комиссии под охраной из 5 тыс. солдат (указ Августа II от 2 марта 1727 г.). Согласно донесениям российских дипломатов, в ее состав должно было войти 22 представителя польской и литовской знати, в том числе К. Шембек, К. Огинский, С.-Э. Денгоф, С. Хо-ментовский, Я.К. Браницкий, Я. Дунин, М. Ос- солинский, К. Сапега, светлейший князь М. Радзивилл и др. [29]. К. Шембек, С.-Э. Ден-гоф и С. Хоментовский были известны как сторонники полного присоединения Курляндии и Семигалии к Речи Посполитой и, соответственно, противники России [17].
Постановление Гродненского сейма произвело неизгладимое впечатление на курляндское рыцарство, которое небезосновательно опасалось результатов деятельности следственной комиссии и оценивало действия Речи Посполитой как ущемление «древних» прав и привилегий. Стоит отметить, что споры относительно политического статуса Курляндии сводились к субъективному толкованию юридических терминов: Речь Посполитая трактовала положения договора Кетлера об автономии как право, заканчивающееся вместе с концом династии; Курляндская сторона настаивала, что «свободная элекция» герцога должна сохраниться вне зависимости от судьбы правящего дома. Разрешить данное противоречие не представлялось возможным. Тем более, что среди курляндского шляхетства не было единого мнения о политической судьбе герцогства и, соответственно, оно не было способно выступить самостоятельной силой, надеясь исключительно на помощь соседних держав.
Основными участниками конфликта, оказывавшими поддержку Курляндии в борьбе за автономию, являлись Россия и Пруссия. Как указывают исследователи, они имели общую цель – противодействовать присоединению герцогства к Речи Посполитой и закреплению на курляндском престоле династии Веттинов [53, s. 484–485]. Соответственно, оба государства стремились не допустить приезда в Ми-таву следственной комиссии и подорвать доверие курляндского рыцарства к Морицу Саксонскому 6. Еще 21 августа 1726 г. между Россией (Г.И. Головкин, А.И. Остерман) и Пруссией (Г. фон Мардефельд) был подписан союзный договор 7, при заключении которого помимо прочего было заявлено о взаимном желании сохранить status quo в Курляндии [14, с. 36]. Более того, русскому чрезвычайному министру в Польше П.И. Ягужинскому предписывалось поддерживать диалог с прусским посланником на Гродненском сейме вплоть до совместной деятельности по срыву заседаний [7].
Однако ожидаемое русскими сотрудничество с Пруссией в польско-курляндских делах не проходило гладко. В преддверии польского сейма прусский посланник Г. фон Мардефельд потребовал, чтобы Россия заняла сторону Пруссии в Торуньском ( нем. Торн-ском) деле 8. Несмотря на союзнические обязательства, он получил от царского правительства, не желавшего вступать в конфликт с Польшей, отказ. В Санкт-Петербурге уже знали, что поляки собираются выразить королю Фридриху Вильгельму I решительный протест в отношении пограничных конфликтов и назначить в Торунь (нем. Торн) специальную комиссию для расследования возмущений протестантов [53, s. 489]. Еще одной причиной столь решительной позиции Екатерины I относительно польско-прусских споров было давление Австрии. В 1726 г. во время переговоров о заключении альянса 9 имперские дипломаты убеждали русского резидента в Вене Л.К. Ланчинского, что под предлогом Торуньского дела прусский король, действуя совместно с англичанами, хочет, во-первых, отторгнуть от Польши какую-либо провинцию, во-вторых, «засуетить» Россию и Австрию настолько, чтобы они были не способны помочь герцогу Голштинскому в его претензиях на Шлезвиг [42, стб. 967].
Взаимное недоверие России и Пруссии усугубляло и то, что прусские дипломаты напрямую не вмешивались в ход русско-польско-курляндских разбирательств. В подобной позиции союзника российская сторона видела недружественную подоплеку. В начале 1727 г. генерал-полицеймейстер А.М. Девиер предостерегал Екатерину I о тайном желании прусского короля решить вопрос чужими руками: «Якобы де дает нам токмо вид такой, чтобы-де мы верили доброму их намеренно, а потом бы же довесть нас в ыгру и наделать разные танцы» [32]. Тем не менее царскому правительству приходилось считаться с позицией Пруссии относительно курляндской автономии и оно стремилось к поиску компромиссов с союзником.
В Санкт-Петербурге отношение к курляндскому вопросу после Гродненского сейма кардинально изменилось. Прежде всего, императрица и ее окружение потеряли интерес к саксонскому «проекту двух дам» и уверились, что Речь Посполитая не поддержива- ет личных амбиций Августа II [53, s. 493; 58, S. 107]. Отдельной задачей признавалась согласованная деятельность российских министров П.И. Ягужинского и М.П. Бестужева-Рюмина с курляндскими депутатами, посланными в Варшаву после сейма. Они должны были скоординировано добиваться «смягчения» позиции Речи Посполитой относительно курляндской автономии.
Принципиально важно, что на данном этапе Россия не стремилась присоединить Курляндию и Семигалию к своей территории или установить там военный контроль. Екатерина I и ее окружение опасались открытого и тем более вооруженного столкновения с Речью Посполитой, поэтому каждое свое действие координировали с интересами польской стороны, старались действовать тайно, дабы не вызвать подозрения [11; 25; 31; 34; 35; 44]. «И о вышепомянутом извольте Ея величество престерегать, – писал кабинет-секретарю А.В. Макарову посланник из Митавы, – чтоб асторожно в том деле было, дабы не допустить до коры (то есть ссоры. – М. Н. ) и до войны, а ежели допустить до коры, то извольте ведать, в каком состоянии наше государство стоит» [24]. В связи с этим царское правительство перестало настаивать на назначении лояльного России кандидата после смерти Фердинанда, а сконцентрировало внимание на проведении в Курляндии пропагандистской кампании против решений польского сейма и расширило поддержку стремлений местного рыцарства к сохранению «древних» прав и привилегий [53, s. 490; 58, S. 108– 111, 117; 60, S. 146–147].
В начале 1727 г. в Митаву был отправлен с тайной миссией генерал-полицеймейстер А.М. Девиер 10, которому поручалось «всякими мерами старатца и курлянцов увещать, чтоб они при прежних своих правах крепко и ненарушимо стояли, и о протчем, что к пользе нашей принадлежит, с представлением сильных резонов» [27]. А.М. Девиер не являлся опытным дипломатом, однако долгое время служил в Прибалтике – во время правления Петра I генерал-полицеймейстер занимался строительством оборонительных сооружений и организацией флота в Ревеле, пользовался доверием императрицы, имел репутацию честного и неподкупного государственного дея- теля (подробнее об этом см.: [12, с. 960–962]). Надо полагать, еще один проверенный и надежный посланник в Курляндию потребовался из-за известного недоверия окружения Екатерины I к П.М. Бестужеву-Рюмину. Авторитет обер-гофмейстера Анны Иоанновны был катастрофически подорван после вмешательства А.Д. Меншикова в курляндские дела, ведь, как известно, светлейший князь переложил всю тяжесть вины за конфликт с курляндцами на Петра Михайловича [5; 53, s. 478–482].
В первой тайной инструкции, полученной А.М. Девиером 10 января 1727 г., обозначались методы работы с пророссийской и про-польской «партиями»: дружественных курляндцев предписывалось всеми способами поддерживать и убеждать в доброжелательных намерениях российской императрицы; недружественных – пытаться склонить на свою сторону, в том числе предлагая им денежное вознаграждение [44]. Практически сразу же генералу-полицеймейстеру стала очевидна шаткость политических позиций местного рыцарства. Курляндцы, образовавшие пророссийс-кую группировку, в действительности не желали ни усиления России, ни усиления Речи Посполитой и, опираясь на протекцию Екатерины, стремились только лишь сохранить свои «древние» права и привилегии. Поэтому они боялись предпринимать какие-либо решительные действия, подозревая, что политическая зависимость от России может обернуться для них еще большим злом. Лидеры курляндцев, занимавших пропольскую позицию, – обер-бург-граф А.К. Костюшко, ландмаршал Э.Ф. фон дер Бриген, гауптман Офемберг – по разным причинам отсутствовали в Митаве, а первый из них вовсе пытался заручиться поддержкой в Польше и ускорить прибытие следственной комиссии [33, с. 976]. Генерал-полицеймейстер так и не смог вступить с ними в переговоры, поскольку не имел в Курляндии доверенных лиц и развитых социальных связей [32; 34; 35; 36; 39].
Установление связей с Морицем Саксонским, надо полагать, изначально являлось для А.М. Девиера вторичной задачей. В инструкции ему указывалось тайно встретиться с графом и узнать, где и в каких условиях он живет, с кем общается, каковы его политические намерения [44]. Во время встречи Мориц наигранно выражал готовность сотрудничать с российской стороной, уверяя, что «он желает зело быть под высокою Вашего величества протекциею и во всем полагается в волю Вашего императорского величества, понеже, когда случилось в разговорех упоминать о имени Вашего величества, то тогда у него из глас слезы выступали» [37, л. 318]. Однако, несмотря на актерские способности графа, страх отпугнуть дружественных курляндцев и дать полякам повод к подозрениям в сотрудничестве с «инфамом и бандитом» оказался сильнее – уже 28 января 1727 г. генерал-поли-цеймейстеру был передан указ, запрещавший видеться с непризнанным курляндским герцогом даже тайно [23; 26].
Тем не менее по мере ознакомления с реальной ситуацией в Курляндии А.М. Девиеру, а вслед за ним и окружению императрицы пришлось изменить отношение к политическому влиянию Морица и, как следствие, занять более враждебную позицию по отношению к нему [18, с. 264–265; 53, s. 493]. Как оказалось, «здешние шляхты едва не все ево любят, и, как я вижу, что здесь все ради ево носят такое платье, как он, Морис, и тем знать дают, что любят ево, також ездит часто к ним по деревням. А иногда между собой шляхты в компаниях говорят, надобно де нам за него умереть, ежели что зделается противно прав их (или пахтов)» [37]. Во второй инструкции от 15 февраля 1727 г. главной целью деятельности генерал-полицеймейстера в Митаве определялось противодействие попыткам графа занять курляндский престол при видимости лояльных отношений с ним. А.М. Девиер должен был убедить курляндских депутатов и обер-ратов не упоминать о его кандидатуре ни на грядущем ландтаге в Митаве, ни в тексте инструкции, отправляемой с депутатом в Польшу [4].
Очередной курляндский ландтаг проходил в Митаве с 22 февраля по 4 марта 1727 года. На него с обновленными инструкциями прибыли депутаты из 19 кирхшпилей, в том числе один «главнейший» Бауский, «у которого в инструкций противное к интересу Вашего величества написано» [33, с. 976; 34, л. 244]. В курляндскую столицу также вернулся камер-юнкер Ф. фон Рутенберг, представлявший интересы герцогства на Гродненском сейме. Он привез для публичного объявления текст польской конституции. Согласно сведениям А.М. Девиера, 24 февраля Ф. фон Ру-тенберг предлагал депутатам рассмотреть реляцию, составленную на основе гродненского постановления, однако они, его не выслушав, разъехались, «ибо та конституция им противна» [31, с. 974].
В общих чертах работа ландтага сводилась к обсуждению трех взаимосвязанных проблем. Во-первых, поднимался вопрос о сохранении или упразднении автономных прав герцогства и легитимности избрания нового правителя. Поскольку депутаты из семи кир-хшпилей, противных российским намерениям, и два пропольских обер-рата, А. Костюшко и Э.Ф. фон дер Бриген, на ландтаг не прибыли, то во время дискуссий доминировала позиция, призывавшая к упорной борьбе за сохранение в Курляндии «древних» прав и привилегий [31; 33]. Хотя данная установка должна была полностью удовлетворить российских дипломатов, по мнению А.М. Девиера, многие курляндцы уклонялись от конкретных обещаний. Они сомневались в искренности поддержки российской стороны, боялись приближавшейся польской следственной комиссии настолько, что готовы были подчиниться всем требованиям короны [31, с. 972–973].
Во-вторых, собравшимся на ландтаг необходимо было подтвердить или опровергнуть избрание Морица Саксонского на герцогский престол. А.М. Девиер и П.М. Бестужев-Рюмин приложили немало усилий, чтобы убедить курляндцев отказаться от кандидатуры Морица. Как представляется, этому должна была способствовать и решительная позиция Речи Посполитой, не признававшей законность ландтага 1726 г. и избрания незаконнорожденного сына польского короля. Однако депутаты были непреклонны и подтвердили свой выбор вновь: «Они (обер-раты. – М. Н.) то за невозможность признавают, ибо сами они в указах посланных х киршпилем, о которых напред сего многократно я доносил, включили ту речь, чтоб они депутатов прислали с полными ин-струкциами, что к пользе и умножению Отечества и содержанию прав и свобод полезной в духовном и мирском состоянии принадлежит, по силе которых указов от кирхшпилей тем депутатом в инструкциах и включено, чтоб о известной персоне при сеймике было подтвержено» [31, с. 972]. Дружественные России обер-раты боялись оказывать давление на депутатов, так как их личная политическая судьба зависела от одобрения местных избирателей. Единственное, чего удалось добиться генерал-полицеймейстеру, – это получить от них обещание не вносить положение, касающееся избрания Морица, в инструкцию депутата, отправляемого в Польшу, а дать ему об этом тайный пункт [31, с. 973].
В-третьих, курляндский ландтаг постановил отправить в Варшаву на Сенат-консилиум, начало которого было назначено на 23 марта 1727 г., капитана Э.К. фон Медема, депутата газенпотского и гробинского, и с ним «одну персону, которая была в Польше при князь Василье Долгоруком, которая как в здешних правах, так и в протчих довольна знающа» [31, с. 974]. Согласно инструкции, выданной Э.К. фон Медему 1 марта, ему указывалось: 1) уверить Августа II и Речь Посполитую в верности и преданности курляндского рыцарства; 2) объявить, что конституция, принятая в Гродно, входит в противоречие с «древними» правами и договорами, поскольку была создана без участия курляндской стороны; 3) выразить недовольство недопуском депутатов, посланных в Польшу с сообщениями о «земских нуждах»; 4) указать на право курляндцев избирать герцога после прекращения династии Кетлеров; 5) в конце концов, убедить отменить назначенную следственную комиссию [8; 9]. И «ежели король и Речь Посполитая по их прошению и по предстатель-ству министров Вашего величества, – писал в реляции А.М. Девиер, – Курляндию оставит при прежних правах, то тогда чтоб тот депутат о том избранном герцоге (о конкретной кандидатуре герцога. – М. Н. ) мог уже предложить» [31, с. 974].
Вскоре после окончания ландтага 4 марта 1727 г. Э.К. фон Медем в одиночестве (второй посланник заболел и не смог поехать) отправился в Варшаву, куда приехал в начале марта [38]. Ему полагалось, по позволению депутатов и обер-ратов, встретиться с российскими министрами П.И. Ягужинским и М.П. Бестужевым-Рюминым и иметь с ними конфиденциальный разговор [15; 16]. А.М. Девиер просил М.П. Бестужева-Рюмина, которо- му доверял в отличие от П.И. Ягужинского [15; 16; 24; 28; 30] 11, «когда сей письмовручитель до вас прибудет, то соизволите с ним во всем, что к лутчему в сем деле принадлежит, конференции иметь без опасения, ибо он человек доброй и к здешней земле верной» [15, л. 161]. Официальный указ о всестороннем «вспоможении» Э.К. Медему был также отправлен в Польшу канцлером Г.И. Головкиным и вицеканцлером А.И. Остерманом [41].
Э.К. фон Медем был встречен поляками как бунтовщик. С.М. Соловьев указывал, что во время совета, собранного у примаса Ф.П. Потоцкого, маршалка Гродненского сейма, курляндский депутат был взят под стражу. При этом ни М.П. Бестужев-Рюмин, ни П.И. Ягужинский не смогли ему помочь, опасаясь вступать в открытую конфронтацию с Речью Посполитой [42, стб. 989–990]. 8 января в реляции Екатерине I П.М. Бестужев-Рюмин сообщал, что Э.К. фон Медем, находящийся под арестом у коронного гетмана С. Ржевуского, передал письмо курляндским обер-ратам, чтобы те обратились к польскому королю с просьбой о его освобождении [40]. Он также прилагал копию и перевод текста коллективного прошения, отправленного Августу II 4 мая. Ланд-гофмейстер Г.Х. фон ден Бринкен и канцлер И.Г. Кайзерлинг от лица курляндских обер-ратов и депутатов писали: «А понеже мы ныне противную волю Вашего королевского величества повторительными разы выразумели и читали, что благородный наш посланник, капитан фон Медем в Варшаве арестован, то мы от той акции [действа] доброхотно отступим. И понеже все делолося на публичном сеймике, мы обращаемся принуждены быть по предписании правительного формуля опять выписать другой сеймик, при котором сеймике присудствие нашего благородного посланика требуется, и чтоб Ваше королевское величество его аресту всемилостивейше освободить и сюда возвратиться позволили» [19].
Как удалось выяснить К. Кантецкому, Э.К. фон Медем находился под арестом вплоть до приезда польской комиссии в последних числах лета 1727 г. (сначала в Варшаве, а затем был перевезен в Митаву). 30 августа во время второго заседания комиссаров в митавской Ратуше представитель курляндс- кого рыцарства, заместитель земского судьи А. Кориф ходатайствовал о назначении нового ландтага и разрешении проведения выборных собраний в кирхшпилях. Он требовал освободить арестанта, возвратить ему дела комиссии 1717 г., разбиравшей политический статус Курляндии и определившей границы власти герцога Фердинанда, и всех документов, найденных при нем в момент взятия под стражу. А. Кориф, кроме того, передал прошение жены капитана, которая не смогла лично выступить перед собравшимися из-за проблем со здоровьем, относительно дальнейшей судьбы ее мужа. Тем не менее комиссары постановили Э.К. фон Медема, посланника литовского гетмана Л.К. Поцея А. Карпа, подстрекавшего курляндцев к созыву ландтага и избранию Морица, и других шляхтичей, выступавших против законных прав Речи Посполитой, оставить под стражей до середины сентября. В реальности заключение продлилось намного дольше. Надо полагать, Э.К. фон Медем был выпущен на свободу лишь к декабрю 1727 г., когда польская комиссия закончила свою работу [52, s. 32].
Таким образом, миссия Э.К. фон Меде-ма, равно как и миссия А.М. Девиера, закончилась ничем. Генерал-полицеймейстер сразу же после завершения курляндского ландтага отправился в Санкт-Петербург, где спустя недолгое время сам оказался под следствием в рамках нашумевшего дела Девиера – Толстого 12. Посланник Э.К. фон Медем, заключенный под стражу, не смог выполнить своей инструкции и убедить короля и Речь Посполитую отменить запланированную комиссию [48, с. 61; 52]. Дальнейший ход курляндского дела определили перемены в политической жизни Российской империи. 17 мая 1727 г. скончалась Екатерина I и управление страной на время перешло к светлейшему князю А.Д. Меншикову, чье желание установить контроль над территорией герцогства оставалось неизменным. В августе из Риги были введены военные формирования под командованием генерала П. Ласси, которому поручалось изгнать из Курляндии Морица Саксонского и помешать работе следственной комиссии. С первой задачей генерал справился с блеском – в ночь с 29 на 30 августа Мориц, бросив своих сторонников и пожитки, бежал в Гданьск. Препятствовать работе польских комиссаров без открытого противостояния с Речью Посполитой оказалось невозможно тем более, что инициатор военного вторжения, А.Д. Меншиков, вскоре был свергнут с политического Олимпа (об участии П. Ласси и И.И. Бибикова в заседаниях комиссии см.: [52]). Польские комиссары под охраной нескольких сотен драгун генерала В. Мейера благополучно расположились в Митаве и в итоге своей работы (до 12 декабря 1727 г.) отказались от полного включения герцогства в состав Речи Посполитой [52, s. 34–37; 53, s. 498; 58, S. 113–115]. До смерти Фердинанда Кетле-ра в Курляндии был сохранен status quо.
Выводы. Заключая, стоит отметить, что решение курляндского вопроса в 20-х гг. XVIII в. требовало слаженных действий как от различных политических группировок внутри герцогства Курляндия и Семигалия, так и от правительств заинтересованных держав (Российской империи, Речи Посполитой, Пруссии, Саксонии и др.). Принятие на Гродненском сейме конституции (постановления), отвергнувшей избрание на герцогский престол Морица Саксонского и провозгласившей назначение в Митаву следственной комиссии с военным сопровождением, обострило политическую ситуацию, заставив, прежде всего, русскую и прусскую стороны изменить характер вмешательства в курляндские дела. В данном контексте России приходилось постоянно лавировать между собственными политическими амбициями – желанием поставить на курляндский престол лояльного герцога – и интересами Речи Посполитой, перспектива военного столкновения с которой рассматривалась советниками Екатерины I как катастрофа. Ситуация осложнялась еще и тем, что политические элиты Курляндии и Семигалии не были едины в своих внешнеполитических ориентирах. По большому счету они стремились выбрать меньшее из двух зол (в лице России или Речи Посполитой), не желали усиления ни одной из держав, использовали их противоречия в борьбе за сохранение древних прав и привилегий, полученных династией Кетлеров. Как показал анализ деятель- ности российских посланников в Курляндии и Польше, им практически ничего не удалось добиться ни от Речи Посполитой, ни от Августа II, ни от курляндских обер-ратов и депутатов. Также и польская следственная комиссия, отправленная в Митаву летом 1727 г., не нашла ничего лучше, чем сохранить в герцогстве status quo. Фактически подтверждение прежнего статуса Курляндии и Семигалии, по крайней мере до смерти Фердинанда Кетлера, выглядело единственным верным решением в условиях сложившейся политической конъюнктуры, когда участники конфликта не могли договориться.
Публикация источника. В приложении публикуется перевод инструкции капитана Э.К. фон Медема, посланника курляндского ландтага на Сенат-консилиум в Варшаву. Данный документ представляет особый интерес для исследователей русско-польско-курляндских взаимоотношений начала XVIII в., поскольку наглядно отразил требования курляндского рыцарства накануне приезда следственной комиссии, их преставления об автономных правах герцогства и механизмы поведения в политической борьбе с Речью Посполитой.
Копия инструкции Э.К. фон Медема была получена А.М. Девиером от «дружественных курлядцев» тайно [33, с. 976]. Ее текст записан готическим курсивом со вставками на латинском языке. Синтаксический и смысловой каркас соответствуют правилам немецкого языка, а политические и юридические термины вставлены на латыни [8]. Перевод документа выполнен в 1727 г. переводчиком Коллегии иностранных дел Ф. Шевиусом, входившим в состав тайной миссии А.М. Девиера [22]. Вторая копия с приложенным тайным пунктом сохранилась среди материалов корреспонденции П.М. Бестужева-Рюмина в Коллегию иностранных дел, где была переведена переводчиком К. Армашенко [9].
Русский текст инструкции капитана Э.К. фон Медема публикуется и вводится в научный оборот впервые. Издание осуществлено по «Правилам издания исторических документов в СССР» (М., 1990).
ПРИЛОЖЕНИЕ
1727 г., 1 марта. Перевод инструкции капитана Э.К. фон Медема
(Л. 43) Понеже благородный господин Фердинанд фон Рутенберг, высококняжеской камер-юнкер, помещик валгальской, от благородного рыцерства и земских чинов 1726 году, 5-г[о] июля 13 к его королевскому ве[личеству] польскому отправлен был с такою инстрюкциею, дабы он в важнейших, до Отечества нашего касающихся, делах домогался, а особливо о сукцессии в запас постановляемой, и он о той негоцияции своей нам обстоятельныя ведомости подавал, того ради благородное рыцерство и зем-ския чины к нынешнему, в 18 де[нь] февраля 1727-г[о] 14 году назначенному, чрезвычайному сеймику упросили благороднаго Эбергарда фон Медема, королевского капитана, помещика писленекенского и дурбенского, по имевшей к нему конфиденции земским депутатом своим в Польшу и ему следующую инструкцию дали.
(Л. 43 об.) 1. Его королевское ве[личество] польское, всемилостивейшаго короля и вышшаго государя нашего уверить подданейшею нашею девоциеюа, також и Светлейшую Речь Посполитую нашею от нас требуемою верностию и преданностию. А потом представить, коим образом благородное рыцерство и земския чины от коммиссии, в последней сеймской конституции определенной, не без основания опасаться имеют злых следованей, ибо вид имеется, что оная комиссия назначена и определена ко опровержениюб того, что, не слушая курлянское доношение и не допустя депутатов с надлежащим их представлением, якобы незаконно заключено.
-
2. Объявить, что всему договоров содержанию и обоих сторон договарывающимся противно есть, чтоб оныя чрез учиненное токмо с одной страны решение опровержены, и мы тому подвержены быть могли // (Л. 44) для того, что таковыя публичныя ви древнияв договоры с общаго обоих сторон согласия опровергнуть надлежало б.
-
3. Коим образом вольному Курландского и Семигальского княжества шляхетству, яко во время поддания, гс правами и привилегиями своимиг к славной вольной же нации привступившим и с оною посредственным образом соединенным, несносно и весьма болезненно есть слышать, что наши депутаты, которыя уже чрез несколько лет в общих земских нуждах от нас посланы, были не допущены, ниже их предложения приняты, но признаны, якобы они от партикуларного собрания посланы были. А известно, что по содержанию договоров и формы правительства верное рыцерство и земския чины вечную власть имеют публичныя съезды держать.
-
4. Что верному рыцерству и земским чинам // (Л. 44 об.) чювствительно есть, что Королевства и Великаго княжества Литовскаго инстигаторыд их своей неправедной цитации преслушниками нарицают и общее до публичного стата касающееся дело к собственным королевства и королевского вел[ичества] судам причитают. А оным собственным судам токмо одних приватных особ дела подлежат, понеже пакты или договоры да привилегии наши [ежели с оказательством благовеннейшей верности и покорности нам говорить позволено] ни от его королевского величества, нашего всемилостивейшаго екороляе и государя, ниже от Светлейшей Речи Посполитой сводной страны толкованы и иследованы быть могут. И что сверх того учиненная верности присяга содержанию пактов предосудительнаж быть не имеет для того, что в помянутой присяге никако не содержано, чтоб в случае // (Л. 45) небытности герцога мы от своих прав и привилегей отрицалися.
И против вышеписанных обстоятельств нашему господину депутату с неотменным уверением о нашей подданейшей верности и должном благоговении имянем благородного рыцерства и земских чинов представить о ужасности комисии чрез последную конституцию, токмо с одной страны определенной, и по всякой возможности своей его королевское вел[ичество] и Светлейшую Речь Посполитую о отвращении оной комисии упросить. Притом подданейше молить, дабы верное рыцерство и земския чины при своих пактах и привилегиях под посредственным соединением в протекции королевства Польскаго и Великаго княжества Литовскаго так, как предки наши, и впредь содержаны были.
И ежели наш господин депутат запотребно изобрещет за его королевским величеством в Саксонию поехать, // (Л. 45 об.) , то вам, нашему земскому господину уполномоченному, к господам обер-ратом заранее о том известие подать и поступать по благоизобретению их.
Ежели же, несмотря на отправленное к его королевскому величеству рыцерства и земских чинов под-даннейшее прошение, здешния земския дела пред тамошними реляционскими судами слушать будут, то вам, нашему господину депутату, (понеже особливой к тому инструкции ныне не имеете) всякия полезныя ко отсрочиванию способы употреблять, також против данных в том деле господину фон Белову и господину обер-гауптману Бракелю15 инструкцей зсогласноз поступать.
Протчее, что до благополучия и общаго блага Отечества и до посредственного княжеского правительства косатися может // (Л. 46) и потребно будет, в том полагаемся на праводушие ваше, однако ж без предо-суждения содержанию сея инструкции.
Переводил Франц Шевиус.
АВПРИ. Ф. 63. Оп. 1. 1727 г. Д. 1. Л. 43–46.
Подлинник.
Копия перевода инструкции сохранилась в фонде Кабинета е.и.в., см.: РГАДА. Ф. 9. Оп. 5. Д. 1. Ч. 5. Л. 256–257.