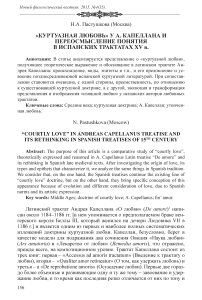«Куртуазная любовь» у А. Капеллана и переосмысление понятия в испанских трактатах XV в
Автор: Пастушкова Наталья Александровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Литература народов стран зарубежья
Статья в выпуске: 4 (35), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется представление о «куртуазной любви», получившее теоретическое выражение и обоснование в латинском трактате Андрея Капеллана: происхождение, виды, эпитеты и т.п., и его преломление и усвоение позднесредневековой испанской куртуазной литературой. При сопоставлении становится очевидна, с одной стороны, преемственность по отношению к существовавшей куртуазной доктрине, а с другой, эволюция и трансформация представления и изображения «изящной любви» у испанских авторов любовных трактатов.
Средние века, куртуазная доктрина, а. капеллан, утонченная любовь
Короткий адрес: https://sciup.org/14914518
IDR: 14914518
Текст научной статьи «Куртуазная любовь» у А. Капеллана и переосмысление понятия в испанских трактатах XV в
Латинский трактат Андрея Капеллана «О любви» ( De amore )1 написан около 1184–1186 гг. [в нем упоминается о предполагаемом браке венгерского короля Беллы III, который женился на дочери Людовика VII в 1186 г.] и является одним из первых и наиболее полных систематических изложений доктрины куртуазной любви. Капеллан, безусловно, берет в качестве модели для подражания два сочинения Овидия «Наука любви» ( Ars amatoria ) и «Лекарство от любви» ( Remedia amoris ), что отражено, прежде всего, на композиционном уровне. Трактат Капеллана состоит из трех книг: первая – «Accessus ad amoris tractatum» (Введение к трактату о любви), вторая – «Qualiter amor retineatur» (О том, как удержать любовь) и третья – а «De reprobatione amoris» (Осуждение любви). Первые две гораздо более объемные и развивающие одну и ту же тему – завоевание и удержание любви, в то время как последняя резко отличается от них по тону и
призывает вовсе отказаться и воздержаться от любви. На это противоречие не раз обращали внимание исследователи, пытаясь дать ему объяснение. Одни полагают2, что никакого противоречия нет, поскольку уже в первых двух книгах содержится ироническое описание «высокой любви». В такой структуре якобы нашло отражение двойственное положение автора текста: клирик, воспевающий куртуазную любовь, т.е. противостояние христианской идеи любви к Богу и любви к Прекрасной Даме. Вероятно также, что первые две книги были написаны по заказу Марии Шампанской и шли вразрез с его собственными убеждениями, которые нашли выход в последней части трактата. Другие же считают (и в их число входит, например, П. Зюмтор), что Капеллан прекрасно осознавал в каком-то смысле еретическую (в 1277 г. трактат подвергся осуждению епископа Парижа) природу своих рассуждений и восхвалений любви к женщине, потому-то и придумал такую структуру. Так или иначе, споры, возникшие еще в эпоху Средних веков, отражают, по сути, проблему феномена «куртуазной любви» как таковой и ее соотнесенности с христианской моралью. Будучи отражением, пусть и литературно опосредованным, социальных практик и норм, (феодальное служение и его отражение в отношениях между Дамой и рыцарем / влюбленным) явление «куртуазной любви» во многом противоречило и встречало отпор со стороны церкви. Отсюда и двойственное устройство текста. Как отмечает М.Л. Гаспаров, «от прославления любви в двух первых книгах он спокойно переходит к столь же систематическому каталогу женских пороков в третьей книге: с точки зрения земной и рыцарской женщина заслуживает всяческого почтения, а с точки зрения высшей и надсословной она заслуживает всяческого презрения, и эти два идеологические пласта лежат в сознании Андрея рядом, не смешиваясь»3.
Следующим аспектом у Каппелана, над которым размышляют исследователи, стало понятие «куртуазной любви как таковой». [Термин «куртуазная любовь» был введен в 1880 г. Гастоном Парисом для определения любовного чувства, воспеваемого французскими и немецкими придворными поэтами в эпоху Раннего Средневековья. Он весьма условен и пространен для толкования, однако удачно и широко используется для анализа многих средневековых текстов]. Я буду оперировать этим термином, который прочно вошел в научный обиход, не вдаваясь в теоретические рассуждения о его связи с понятием fin amor (можно сослаться на работы Дюби, Париса, Льюиса, которые подробно разбирают данный вопрос, выводят характеристики любви и т.п.). Капеллан, не используя слово «куртуазный», тем не менее, рисует и закрепляет правила и представления куртуазной любви. Его трактат в теоретической форме систематизирует то, что разбросано и по крупицам восстанавливается непосредственно из поэзии трубадуров (так сказать, куртуазной практики). Написание этого сочинения происходит непосредственно в то время, когда поэзия трубадуров достигает наивысшего расцвета. Капеллан рассматривает и анализирует явление «куртуазной любви» изнутри, глазами современника. Поэтому порой создается ощущение, что ему не хватает дистанцированности, что-

бы объективно и предельно отвлеченно описать анализируемое им. Для того, чтобы произошла кодификация определенных понятий, необходимо время. Так и произойдет. Спустя буквально столетие начнут писаться в огромном количестве трактаты, продолжающие традицию Капеллана, но гораздо более жестко и систематично регламентирующие нормы и правила куртуазного «вежества».
Меня интересует, как традиция куртуазной любви, восходящая к Капеллану, будет адаптирована в испанских позднесредневековых трактатах XV в.
Но прежде посмотрим, как описывается любовь у Капеллана, какими эпитетами он сопровождает это слово. Начинает он с определения любви: «Любовь есть некоторая врожденная страсть, проистекающая из созерцания и неумеренного помышления о красоте чужого пола, под действием каковой страсти человек превыше всего ищет достичь объятий другого человека и в тех объятиях по обоюдному желанию совершить все, установленное любовью»4.
В латинском варианте стоит слово « passio », страсть. Ее же Капеллан имеет в виду, когда приводит ставшее классическим разделение на два вида любви: « amor purus» (чистая) и « amor mixtus » (смешанная). Получается, что первая соответствует «куртуазной», не знающей счастливого конца и физического соединения влюбленных. Она-то и побуждает мужчину совершать подвиги ради расположения Дамы, радоваться «наградам» в виде драгоценностей, шнурков и поясов, но при этом всегда находиться вдали от желанной цели. Такая любовь-страсть возможна только вне брака, но при этом она является источником совершенства и приобретения высших качеств влюбленным, что в свою очередь угодно Богу.
«Смешанная» же любовь [от лат. глагола miscere в значении «иметь сексуальные отношения»] выступает ее противоположностью, «длится лишь краткое время» и обретает свершение «в заключительном Венерином действе». Используя иную терминологию – можно охарактеризовать ее как лживую, ложную, безумную любовь.
Примечательно, что предпочтение не отдается ни той, ни другой любви - «yo apruebo tanto el amor mixto como el puro, pero prefiero practicar éste último» («я признаю как любовь смешанную, так и чистую, но предпочитаю практиковать именно последнюю»). Если вернуться к исходному тезису о противоречивой структуре трактата, то можно сказать, что в подобном разделении как раз нашла отражение двойственная оценка любви, заложенная в структуре трактата. Как правило, профанная, земная любовь между мужчиной и женщиной, знающая плотские радости, противостоит любви духовной, возвышающей и приближающей к Богу. Капеллан, как мне кажется, несколько трансформирует это представление, заменяя во втором случае Бога на недостижимую прекрасную Даму. «Чистая любовь» есть отражение тех идеалов, что воспевались трубадурами в поэзии, однако в изображении ее у Капеллана присутствует очевидная ирония, т.к. ее идеальность и недостижимость расходятся с жизненной практикой.

Куртуазная доктрина, представленная у французского клирика, становится отправной точкой для последующих рассуждений на эту же тему. Популярность «О любви» в Европе была очень велика, он переводился на народные языки, хотя в условиях европейской образованности в этом не всегда была необходимость, т.к. текст был написан на латыни. Конечно, и испанская литература не осталась без влияния этого сочинения. И хотя перевод в XIV в. был выполнен на каталанский [по просьбе Дона Хуана I Арагонского и его фаворитки Доньи Карросы де Виларагут во второй половине XIV в.: 1387–1389 гг. Относительно авторства есть сомнения, предполагается, что его автором был некий Доминго Маско, чье имя фигурирует в рукописи, но исследователи считают это имя лишь прикрытием], есть все основания полагать, что трактат имел хождение по всей Испании.
Доктрина куртуазной любви в Испании XV в. продолжила уже сложившуюся и почти прекратившую свое существование в соседних странах традицию. Безусловно, традиция «куртуазной любви» в том виде, в каком она представлена, в частности, в придворных кансьонерос XV в. в Испании, прошла долгий путь становления и, прежде всего, свои основные черты приобрела в галисийско-португальской лирике. Эта поэзия выработала свои, специфические жанровые формы, изобразительные средства и приемы, которые, с одной стороны, восходят к провансальской лирике, а с другой, привносят местные фольклорные формы. В целом тематика провансальской поэзии сокращается до определенного набора ситуаций, которые станут основными для галисийско-португальской поэзии, также изменяется список персонажей, представленных в ней. Например, уже тогда исчезает фигура «мужа», а, следовательно, и вся адюльтерная линия.
И если у галисийских поэтов, равно как и у сочинителей XV в., не встречается в чистом виде характеристика любви как «изящной» ( fino ), то это не значит, что она для них таковой не являлась. В этом смысле как раз гораздо удобнее использовать термин «куртуазная любовь» ( amor cortés ), т.к. он вполне адекватно отражает сущность того явления, о котором идет речь.
Наивысшего расцвета куртуазная литература в Испании достигает в XV в. Будучи явлением позднесредневековым и по времени далеко отстоящим от провансальской поэзии, она тем не менее сумела создать как в теории, так и на практике полноценный комплекс куртуазной доктрины.
Объектом моего анализа в данном случае выступают несколько трактатов, авторы которых рассуждают о любви, ее природе, воздействии и т.п. Это «Краткое рассуждение о дружбе и любви» (1436 или 1437) Альфонсо де Мадригаля, «Трактат о любви» , приписываемый Хуану де Мене (1444) и «Как человеку должно любить» (1470?) Тостадо (возможно, псевдоним А. де Мадригаля)5.
«Краткое рассуждение о любви и дружбе» ( Breviloquio de amor e amiçiçia, 1436 или 1437 гг.) представляет собой довольно пространное прозаическое сочинение, состоящее из трех частей. Авторитетами для кастильского эрудита выступают классики античности и средневеко-
вья – Аристотель, Сенека, Боэций и, конечно, Овидий. Мадригаль следует аристотелевской идее о том, что возможность испытывать любовь – есть естественное свойство человеческой натуры (отсюда разные типы любви: детей к родителям, любовь к Богу, любовь между мужчиной и женщиной). «Este principio es el amor, por el qual todas animalias perfectas con grande impetuosidad se mueven a la conmixtión carnal» («Это начало есть любовь, из-за нее все совершенные существа неудержимо склоняются к телесному единению»). Именно этот факт и служит объяснением и оправданием тем чувствам, которые вспыхивают между представителями разных полов. Мадригаль обращается к рассмотрению случаев именно любви плотской, безумной, сладострастной, т.к. она «más crudo e impetuoso que todas las passiones» («более жестока и несдержанна, нежели остальные влечения»). Параллельно автор устанавливает различия в отношении к любви между человеком и животным: последние движимы исключительно инстинктом и необходимостью продолжить род, в то время как у человека более сложная система мотиваций (наслаждение, красота возлюбленной, сила воображения и т.п.). Мадригаль описывает «безумную», «незаконную» ( ilícito) любовь, т.к. именно она служит причиной сильных страстей и ярких любовных историй, примеры из которых он тут же приводит (кровосмесительные связи: Библида и ее брат Канв; Смирна и ее отец Кинир, Федра и Ипполит, и др.). Невозможно контролировать ее и управлять ею, поэтому не следует и осуждать. Таким образом, не обращаясь напрямую к изображению утонченной любви, Мадригаль тем не менее выводит модель влюбленного, которая будет реализована в лирике кансьонеро и испанских сентиментальных повестях.
Перу Альфонсо Фернандеса де Мадригаля приписывается еще одно сочинение с рассуждением о любви – «Как человеку должно любить», однако авторство Тостадо (его имя указывается, например, в издании Пас-и-Мелиа) не признается и оспаривается многими исследователями (среди них можно назвать, например, Гомеса Редондо и Педро Катедру). С точки зрения жанра, перед нами послание, письмо к другу, что, конечно, сближает это сочинение скорее с текстами художественной традиции. Рассказчик, испытавший несчастную любовь, решил поделиться своим опытом и ответить на упреки со стороны друга.
Основной тезис, заявленный в названии, трактуется следующим образом: потребность, которая побуждает человека любить (во всех смыслах этого слова), преимущественно связана с созерцанием, но при этом заставляет удовлетворять и желания человеческой плоти. Главным термином, используемым для определения любви, становится « pasión » и « codicia », отсылающие нас к «безумной» и «неправильной» любви, поскольку в это время человек движим исключительно плотскими желаниями. Все это – суть проявления человеческой природы (как это было и в трактате Тоста-до), а потому ничего недостойного в этом нет. Для своего «оправдания» и в этом сочинении автор прибегает к большому числу примеров любовных историй античных и средневековых героев.
В этих двух сочинениях прослеживается влияние Капеллана, с его желанием примирить/разграничить два типа любви. Та двойственность, которая присутствует у французского автора, сохраняется и в испанских сочинениях. Правда, в испанской традиции произошел отказ от установки на возможность осуществления «высокой» любви только в рамках адюльтера. Это по-прежнему внебрачная любовь, но двух свободных людей. И поскольку она вне брака, то, по сути, незаконна и безумна. Эти противоречия и пытаются отразить авторы, в том числе и в трактатах.
Упомяну еще одно сочинение, рассматривающее любовное чувство. Это «Трактат о любви» псевдо-Мены. В нем говорится о трех типах отношений – дружбе ( amistad ), любовных отношениях ( dilección/ amorío ) и дружеской любви ( amor de amistad ). Автор сразу оговаривает, что описание «божественной любви» – это удел святых отцов, и они посвятили этому уже достаточно книг, а посему сам обращается к «aquello que es del estilo nuestro» (т.е. к тому, что ближе ему – к описанию любви «земной»). Любовь, как он пишет, делится на два типа: законную или правильную ( lícito e sano ) и незаконную или сумасшедшую ( no lícito e insano ). Первая – реализуется в браке и находит поддержку и благословение со стороны церкви. Но в данном случае автор предпочитает уделить больше внимания незаконным страстям: называются одиннадцать черт, которые характеризуют возникновение подобных чувств: добродетель ( virtud ), красота ( fermosura ), соразмерная жизнь ( vida conforme ), подарки ( dádivas ), благородное происхождение ( grande linaje ), приятные речи ( fabla dulçe ), предвосхищение ( anticipación ), свободное время ( ocio ), непринужденность ( familiaridad ), посредничество третьих лиц ( mediación de otra persona ), преследование (perseguimiento ).
Также даются советы, как избежать чувства и забыть о нем. В этом смысле совершенно очевидно следование овидианской схеме «Науки любви» (которую псевдо-Мена беспрестанно цитирует вкупе с прочими античными авторами). Итогом рассуждений становится обличение такой любви, она именуется «malo» (злой, плохой), а потому: « tantos peligros e vergüenzas e desonores se causan e siguen del mal amor, mucho se deve la noble gente apartar dél» («столько бед, бесчестий и позора возникает и происходит от плохой любви, что благородные люди всячески должны избегать ее»).
Кстати, все три испанских автора заканчивают свои сочинения некими советами по поводу того, как избежать любви и «вылечиться» от нее, что, естественно, отсылает нас к традиции Овидия и Капеллана.
Таким образом, видно, что куртуазное представление о любви, восходящее к европейской средневековой традиции, а еще точнее, к сочинению «О любви» Андрея Капеллана, задает общее направление рассуждений о природе и характеристике куртуазной любви. Двухчастная оппозиция любви «чистой» и «плотской» почти неизменно присутствует и у испанских авторов. Но акценты расставляются иначе. Во-первых, очевидно, что испанская традиция целиком снимает рассмотрение любви в перспективе
физического соединения влюбленных. Это не является главным критерием для проведения границы. Страстная любовь хоть и осуждается, но видит логическое завершение в браке, чтобы изменить свой статус. Отсюда введение и употребление таких ее определений, как «законная / незаконная». Во-вторых, совершенно не говорится о том, что объектом «недостойной» любви является женщина низкого происхождения. Т.е. сфера куртуазной любви (во всех ее проявлениях) высокая. И, наконец, в испанском варианте не заостряется противоречие любви к Богу и Даме. Это два разных варианта любви, за которыми закреплены различные сферы. В Испании в большей степени проявляется влияние аристотелевских представлений о любви («любить значит желать кому-нибудь того, что считаешь благом, ради него [т.е. этого другого человека], а не ради самого себя, и стараться по мере сил доставлять ему эти блага»), что в свою очередь углубляет и придает ей своеобразие.
Если же говорить о соотношении куртуазной теории с практикой, то в обоих случаях очевидна бóльшая стройность и непротиворечивость в художественной части по сравнению с трактатной. Поэзия трубадуров, равно как и поэзия испанских кансьонеро, выглядит более законченной и непротиворечивой. Как только эти же темы попадают в трактаты и пытаются быть осмыслены в теории (как правило, клириками), то неизбежно возникает двойственность их толкования, унаследованная от Капеллана.
В конце следует вспомнить знаковый для испанской средневековой литературы текст – «Книгу благой любви» (1343) Хуана Руиса, который также затрагивает изображение любви в различных вариантах. Хуан Руис, конечно же, был знаком с сочинением Овидия, о чем свидетельствует схожесть позиции в описании любви: с одной стороны, восхваление, с другой – порицание. Испанский автор представил различные варианты любви: утонченную / высокую (fin / buen amors) – безумную / ложную (fals / loco, mal amors) – любовь к Богу6. Причем первая и последняя, по сути, определяются одними и теми же словами, но не исключают друг друга. Скорее, можно выстроить их иерархию, которая отражает всю полноту возможных проявлений человеческих чувств в мире. Таким образом, двойственность и противоречивость характеристики любви Капеллана усваивается испанской традицией, а через неоднозначность определения «благой любви» Хуана Руиса попадает в трактаты XV в. и развивается в них.
Список литературы «Куртуазная любовь» у А. Капеллана и переосмысление понятия в испанских трактатах XV в
- Andrés el capellán. De amore (Tractado sobre el amor)/ed. de I. Creixell VIdal-Quadras. Barcelona, 1990
- Robertson Jr.D.W. The subject of “De amore” of Andreas Capellanus//Chicago Journals. 1953. Vol. 50. № 3. Feb. P. 145-161
- Жизнеописания трубадуров. Жизнеописания древних и наиславнейших провансальских пиитов, во времена графов провансских процветших. М., 1993. С. 572
- Жизнеописания трубадуров. Жизнеописания древних и наиславнейших провансальских пиитов, во времена графов провансских процветших. М. 1993. С. 384
- Tratados de amor en el entorno de la Celestina (siglos XV-XVI). Madrid, 2001. P. 11-72