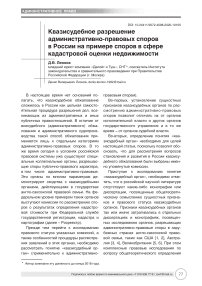Квазисудебное разрешение административно-правовых споров в России на примере споров в сфере кадастровой оценки недвижимости
Автор: Леонов Денис Валерьевич
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Административное право
Статья в выпуске: 1 (220), 2020 года.
Бесплатный доступ
Автор исследует аспекты становления и развития процедуры квазисудебного обжалования в России на примере комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Анализирует понятие «квазисудебный орган», отмечает преимущества квазисудебного рассмотрения административно-правовых споров. Приходит к выводу о том, что квазисудебное обжалование может стать альтернативой административному судопроизводству при разрешении административно-правовых споров в других сферах государственного управления.
Квазисудебное обжалование, квазисудебный орган, административно-правовой спор, организационно-функциональные принципы, принцип непосредственности, квазисудебное урегулирование спора
Короткий адрес: https://sciup.org/170173099
IDR: 170173099 | DOI: 10.24411/2072-4098-2020-10105
Текст научной статьи Квазисудебное разрешение административно-правовых споров в России на примере споров в сфере кадастровой оценки недвижимости
В настоящее время нет оснований полагать, что квазисудебное обжалование сложилось в России как цельная самостоятельная процедура разрешения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. В отличие от внесудебного (административного) обжалования и административного судопроизводства такой способ обжалования применяется лишь к отдельным категориям административно-правовых споров. В то же время сегодня в условиях российской правовой системы уже существуют специальные коллегиальные органы, разрешающие споры публично-правового характера, в том числе административно-правовые. Эти органы по многим параметрам демонстрируют сходства с квазисудебными органами, действующими в государствах англо-саксонской правовой семьи. На федеральном уровне примером таких органов выступают комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр).
Прежде чем перейти к исследованию правового статуса указанных комиссий, а также особенностей процедуры рассмотрения заявлений в этих органах, необходимо рассмотреть понятие «квазисудебный орган» (применительно к административно- правовым спорам).
Во-первых, установление сущностных признаков квазисудебных органов по рассмотрению административно-правовых споров позволит отличать их от органов исполнительной власти и других органов государственного управления и в то же время – от органов судебной власти.
Во-вторых, определение понятия «ква-зисудебный орган» необходимо для целей настоящей статьи, поскольку позволит обосновать, что для рассмотрения вопросов становления и развития в России квазису-дебного обжалования были выбраны именно упомянутые комиссии.
Приступая к исследованию понятия «квазисудебный орган», необходимо отметить, что в российской научной литературе отсутствуют какие-либо монографии или диссертации, посвященные общетеоретическому осмыслению сущностных признаков и правового статуса квазисудебных органов. Признаки квазисудебных органов так или иначе затрагивались в отдельных диссертациях и монографиях, посвященных исследованию органов, разрешающих административно-правовые споры в зарубежных странах англо-саксонской правовой семьи, таких как США [1, 2], Австралия [3, 4], Великобритания [5, 6]. При этом комплексные правовые исследования по вопросу общетеоретического определения сущности и положения квазисудебных органов в системе разделения властей в настоящее время отсутствуют.
Представляется, что отсутствие теоретических основ понимания сущности квазисудебных органов обусловило беспорядочное, можно сказать, хаотичное употребление термина «квазисудебный орган» (или «квазисуд», «квазисудья») в различных отраслевых исследованиях. Применительно к вопросам различных отраслей права «ярлык» квазисудебного органа (или квазисудьи) присваивался различным органам и должностным лицам, относящимся к различным ветвям государственной власти России (или же не относящимся ни к одной из ветвей). Приведем три ярких примера, подтверждающих сказанное.
Так, А.А. Ливеровским и М.В. Петровым Конституционный Суд Российской Федерации был отнесен к квазисудам. По мнению исследователей, Конституционный Суд не вписывается в судебную систему, поскольку в отличие от судов общей юрисдикции и арбитражных судов не разрешает споры о праве, а многие традиционные принципы правосудия, например состязательность, не проявляются ярко в конституционном судопроизводстве [7, с. 27].
Среди органов законодательной власти также есть органы, отнесенные исследователями к квазисудебным.
Так, по мнению В.И. Ерыгиной, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации выступает квазису-дебным органом при объявлении амнистии [8, с. 58].
Даже Президент Российской Федерации, по мнению некоторых исследователей, при определенных обстоятельствах может быть охарактеризован как квазисудья. Как считает В.Г. Громов, Президент осуществляет квазисудебные функции при принятии решения об отрешении от должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия [9, с. 36].
Приведенные примеры показывают, что спектр существующих органов, относимых учеными к квазисудебным, чрезвычайно широк. Более того, некоторые исследователи относят к квазисудебным органам и существовавшие в нашей стране в XIX–XX веках учреждения: крестьянские волостные суды, сельские сходы [10, с. 11], революционные трибуналы [11, с. 23] и даже так называемые «тройки» НКВД СССР [12, с. 34]. При этом подавляющее большинство авторов, применяя термины «квазисудебный орган», «квазисуд», «квазисудья» к тому или иному органу или должностному лицу, не останавливаются на вопросе об определении квазисудебного органа, его сущностных признаках.
Думается, что повсеместное употребление термина «квазисудебный орган» в научной литературе, лишенное теоретического осмысления, не способствует установлению сущностных признаков квазисудебных органов, а значит, и их правового статуса. В связи с этим трудно не поддержать следующее утверждение С.А. Старостина: «Надо просто четко разделить судебные, досудебные, внесудебные и квазисудебные функции и процедуры» [13, с. 14].
Для целей настоящей статьи считаю необходимым сосредоточиться на определении понятия «квазисудебный орган» применительно к разрешению административно-правовых споров. Представляется, что наиболее подробную характеристику квазисудебных органов представили А.Б. Зеленцов и О.А. Ястребов в учебнике «Судебное административное право». Исследователи выделяют следующие общие признаки квазисудебных органов [14, с. 30]:
-
1) эти органы наделены юрисдикционными полномочиями по разрешению административно-правовых споров;
-
2) эти органы не входят в судебную систему;
-
3) эти органы «используют квазисудеб-ные процедуры, то есть почти судебные процедуры, максимально приближенные к ним»;
-
4) эти органы относятся к системе исполнительной власти либо к органам судейского сообщества, которые к судебной власти не относятся;
-
5) эти органы не осуществляют правосудие.
Представляется разумным всецело согласиться с А.Б. Зеленцовым и О.А. Ястребовым в том, что квазисудебные органы не входят в судебную систему и не осуществляют правосудие, поскольку приведенные утверждения полностью соответствуют смыслу положений статьи 118 Конституции Российской Федерации. Нельзя не разделить позицию исследователей и в том, что эти органы рассматривают административно-правовые споры. В связи с этим необходимо отметить, что не могут являться квазисудебными органы исполнительной власти, рассматривающие дела об административных правонарушениях, поскольку в этих делах, как справедливо отмечается в литературе, наличествует посягательство на право, а не административно-правовой спор (см. [16, с. 19]). Однако другие признаки квазисудебных органов, приведенные авторами, вызывают некоторые вопросы, требующие более глубокого рассмотрения.
Так, А.Б. Зеленцов и О.А. Ястребов полагают, что процедура разрешения споров в квазисудебных органах максимально приближена к судебной. При этом что понимается под «максимальным приближением» квазисудебных процедур рассмотрения спора к административному судопроизводству, какие сходства должны быть у квазисудеб-ных процедур с судебными процедурами, авторами, к сожалению, не поясняется.
Для более точного определения сходства квазисудебных функций с судебными необходимо установить принципы административного судопроизводства, которые в той или иной мере могут быть применены к ква-зисудебным процедурам рассмотрения административно-правовых споров с учетом особенностей таких процедур.
Думается, что подавляющее большинство организационно-функциональных принципов, установленных положениями Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), уже в силу того, что квазисудеб-ные органы не могут относиться к судебной власти, не могут быть применены к ква-зисудебному рассмотрению административно-правовых споров. Реализация этих принципов свойственна исключительно судебным органам в силу их особого положения в системе разделения властей (независимость судей, разумный срок судопроизводства и исполнения судебных актов). К этой группе принципов в силу тех же причин можно отнести общие для всех видов судопроизводства организационнофункциональные принципы, установленные положениями Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (самостоятельность судов, несменяемость и неприкосновенность судей, участие граждан в отправлении правосудия).
Другие принципы применимы не только к административному судопроизводству, но и к любой другой деятельности государственных органов. В числе этих принципов – равенство всех перед законом и судом, законность и справедливость при рассмотрении дел, язык производства по делу. В указанных принципах не могут выражаться существенные сходства квазису-дебного обжалования и административного судопроизводства, приближающие квазису-дебные органы к судам, превращающие их в некое подобие судов.
Полагаю, что особый интерес представляют принципы административного судопроизводства, которые не только могут, но и должны (в той или иной степени) применяться к квазисудебным процедурам разрешения административно-правовых споров. Речь идет о следующих принципах:
-
1) состязательность;
-
2) активная роль суда при рассмотрении дела;
-
3) диспозитивность;
-
4) непосредственность при рассмотрении дела;
-
5) гласность и открытость.
Принцип состязательности, содержанием которого охватываются равные возможности сторон по представлению доказательств, участию в исследовании и выражению мнения по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела, вполне может быть применен в квазисудебном обжаловании. Если лица, обратившиеся в квазисудебный орган, органы и должностные лица, чьи решения оспариваются, будут лишены возможности предъявлять доказательства и участвовать в их исследовании, а также отстаивать свою позицию, состязаясь друг с другом, то процедура обжалования, по сути, ничем не будет отличаться от внесудебной (административной) процедуры, которая позволяет должностному лицу принять решение без заслушивания сторон и рассмотрения доказательств (кроме тех, которые уже были приложены к жалобе).
Для объективного рассмотрения жалобы во многих случаях будет необходимо проявление активной роли квазисудебного органа (квазисудьи), которая выражается в наличии у органа расширенных полномочий по руководству производством по делу, в частности, в возможности органа или должностного лица истребовать доказательства по собственной инициативе. Активная роль юрисдикционного органа органично сочетается с любым способом разрешения административно-правовых споров, поскольку для такой категории споров свойственно фактическое неравенство положения лица, ищущего защиты прав, и активной администрации.
Исходя из указанной особенности административно-правовых споров принцип состязательности сторон может быть применен к квазисудебному обжалованию с одним существенным исключением. Речь идет о распределении бремени доказывания – представляется, что в квазисудеб-ном обжаловании органы или должностные лица, принявшие оспариваемые решения, должны доказать их законность и обоснованность. Возложение на администрацию обязанности обосновать принятое решение позволит, во-первых, учесть дисбаланс фактических возможностей частного лица и административного органа по сбору доказательств, во-вторых – повысить авторитет органов исполнительной власти и иных государственных органов среди населения. Думается, что решения администрации будут вызывать доверие у граждан только тогда, когда сама администрация в условиях квазисудебного обжалования представит достаточно веские обоснования своей деятельности.
Принцип диспозитивности, который прямо не закреплен положениями КАС РФ, как представляется, может иметь ограниченное применение в квазисудебном обжаловании. Этот принцип предполагает наличие возможности у сторон распоряжаться процессуальными правами по своему усмотрению. Нельзя не учитывать возможность отказа лица от жалобы или изменение требований, содержащихся в ней, – очевидно, что такие возможности должны быть предоставлены лицу и при рассмотрении жалоб квазисудеб-ным органом. Однако имплементация в ква-зисудебное обжалование института мирового соглашения (который является одним из проявлений принципа диспозитивности) представляется затруднительной. Вступившее в силу мировое соглашение, по сути, имеет такой же порядок исполнения, как и решение суда, поэтому его утверждение требует тщательного процессуального контроля, который, полагаю, может обеспечить только суд. Кроме того, обсуждение сторонами условий мирового соглашения может затянуться на значительный срок, что никак не будет способствовать оперативности квазисудебного обжалования, обеспечение которой отличает такой способ разрешения административно-правовых споров от судопроизводства.
Принцип непосредственности отличает обжалование в квазисудебном органе от внесудебного обжалования. Непосред- ственность заключается в том, что должностные лица, рассматривающие дело, лично исследуют все доказательства по делу и принимают решение. Если квази-судебный орган (или квазисудья) не будет рассматривать все доказательства и материалы по жалобе лично, непосредственно, без делегирования исследования материалов дела нижестоящим исполнителям 1, если процедура рассмотрения жалобы не будет подразумевать вызов сторон на заседание и устные прения во взаимодействии с квазисудебным органом (или квазисудьей), то эта процедура, в сущности, ничем не будет отличаться от сугубо внесудебного (административного) обжалования, в рамках которого должностное лицо вполне может принять заочное решение по жалобе, без заслушивания заинтересованного лица. Отмечу, что, как и в суде, непосредственность в квазисудебном обжаловании не должна присутствовать только при рассмотрении дела. Действие этого принципа распространяется и на вопрос о принятии жалобы к производству, а также на подготовку к рассмотрению жалобы. Только в этом случае можно будет говорить о полной вовлеченности должностных лиц квазису-дебных органов в процесс рассмотрения жалобы и, как следствие, об объективности решения.
Принцип гласности и открытости, содержанием которого охватывается общественный контроль в сфере разрешения споров, также сближает процедуры административного судопроизводства и квази-судебного обжалования. Представляется, что обеспечение соблюдения гласности и открытости в квазисудебном обжаловании повысит доверие к этому способу защиты прав в отношениях с публичной админи- страцией – присутствуя при рассмотрении жалоб квазисудебными органами, незаинтересованные в исходе дела лица получат возможность воочию оценить преимущества квазисудебного разрешения административно-правовых споров. Кроме того, гласность и открытость является одной из необходимых гарантий обеспечения законности при рассмотрении жалоб в квазису-дебных органах.
Помимо рассмотренного признака ква-зисудебных органов (сходство процедуры с судопроизводством), вызывает интерес и то, что А.Б. Зеленцовым и О.А. Ястребовым определены два варианта положения квазисудебных органов в системе разделения властей: или они действуют в системе исполнительной власти, или они относятся к органам судейского сообщества. При этом авторы допускают, что квазисудебные органы могут иметь статус, подобный административным трибуналам в других государствах, то есть обладать максимальной самостоятельностью, или же могут относиться к числу обычных (ординарных) ква-зисудебных органов, которые пусть и обладают определенной самостоятельностью от администрации, но создаются при органах исполнительной власти [14, с. 59–60].
Приведенные модели организации ква-зисудебных органов все же не могут внести окончательную ясность в решение вопроса о том, относятся ли квазисудебные органы к органам исполнительной власти. Думается, что в силу широкого разнообразия квазисудебных органов по рассмотрению административно-правовых споров, действующих в различных государствах, действительно стоит согласиться с позицией А.Б. Зеленцова и О.А. Ястребова относительно того, что квазисудебные органы могут значительно отличаться друг от друга в том, насколько они независимы и обособлены от органов исполнительной и судебной власти [14, с. 60].
Однако в реалиях российской правовой системы, на мой взгляд, вопрос о положении квазисудебных органов в системе разделения властей решается несколько иначе. Представляется, что квазисудебные органы могут быть отнесены к системе исполнительной власти Российской Федерации только в качестве самостоятельных органов, если они будут включены в структуру федеральных органов исполнительной власти в соответствии с указом Президента Российской Федерации. Если жалобы будут рассматриваться структурным подразделением какого-либо органа исполнительной власти, состоящим из государственных служащих этого органа, даже пусть и по квази-судебной процедуре, то это подразделение не будет являться органом вообще. Поскольку в настоящее время в структуре федеральных органов исполнительной власти, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 215 [20], квазисудебные органы отсутствуют, основания для отнесения существующих в России квазисудебных органов к системе исполнительной власти также отсутствуют.
В то же время нельзя не допускать, что квазисудебный орган, даже обладая организационной обособленностью, может быть в существенной степени зависим от администрации (например если состав квазису-дебного органа определяется руководителем органа исполнительной власти). При этом необходимо отметить, что если решения органа по жалобам должны утверждаться должностным лицом органа исполнительной власти, то такой орган называть квазисудебным было бы некорректно, поскольку его решения, по сути, будут иметь рекомендательный характер, в то время как реальные юрисдикционные функции останутся у активной администрации.
Следовательно, исходя из приведенных суждений можно определить современное положение квазисудебных органов в системе разделения властей в Российской Федерации следующим образом: квазисудебные органы не входят в судебную систему, не входят в систему органов исполнительной власти, хотя и могут быть в определенной степени зависимы от последних.
Обобщая рассмотренные признаки ква-зисудебных органов, можно выделить их характерные черты:
-
1) содержание деятельности этих органов – разрешение административно-правовых споров;
-
2) эти органы не входят в судебную систему и не осуществляют правосудие – впоследствии их решения могут быть обжалованы в суде;
-
3) эти органы обладают организационной обособленностью, даже если они входят в систему исполнительной власти, то не могут являться структурными подразделениями других органов, при этом квазису-дебные органы могут находиться в определенной зависимости от администрации;
-
4) сходство этих органов с судами состоит в том, что они рассматривают жалобы, руководствуясь в той или иной мере принципами состязательности, активной роли квазисудебного органа (квазисудьи), диспозитивности, непосредственности при рассмотрении дела, гласности и открытости.
Исходя из приведенных признаков ква-зисудебного органа представляется возможным исследовать правовое положение комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре (далее также – комиссии). Думается, что статус этих комиссий, а также процедура рассмотрения заявлений о пересмотре кадастровой стоимости (далее – заявления) этими органами соответствуют приведенным признакам квазисудебных органов.
Правовой статус комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости регламентирован положениями приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 263 «Об утверждении Порядка создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 22 февраля 2011 г. № 69 «Об утверждении Типовых требований к порядку создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости» (далее – Приказ № 263), который был утвержден во исполнение статьи 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Очевидно, что комиссии не входят в судебную систему и не осуществляют правосудие. При этом в их компетенцию входит разрешение споров о результатах определения кадастровой стоимости (в соответствии с пунктом 13 Приказа № 263).
В соответствии с пунктами 3 и 4 Приказа № 263 в комиссии, помимо должностных лиц Росреестра, входят эксперты Национального совета по оценочной деятельности (саморегулируемой организации оценщиков), которые не находятся в служебном подчинении Росреестра. Если обратиться к структуре центрального аппарата Росреестра, утвержденной приказом Росреестра от 30 мая 2013 года № П/210 [23], а также к типовым положениям о территориальных органах Росреестра [24, 25], то можно прийти к выводу о том, что комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в структуру Росреестра не входят. Таким образом, комиссии являются отдельными от Росреестра государственными органами, которые не входят в систему исполнительной власти. В то же время комиссии в определенной степени зависят от Росреестра – их состав утверждается приказом Росреестра в соответствии с положениями пунктов 1–6 Приказа № 263.
Самой яркой отличительной чертой правового положения комиссий является то, что процедура рассмотрения заявле- ний в этих органах имеет существенные сходства с административным судопроизводством, что обеспечивает (пусть и не в полной мере) соблюдение принципов, сближающих судебный процесс и квазисудеб-ное обжалование.
Принцип состязательности при рассмотрении заявлений комиссиями проявляется в том, что заявителям предоставляются гарантии возможности присутствовать на заседании и быть заслушанными в ходе рассмотрения заявлений. В соответствии с пунктом 16 Приказа № 263 за пять рабочих дней до даты заседания комиссии о времени и месте проведения заседания извещаются не только заявители, но и исполнители работ по кадастровой оценке недвижимости, а также оценщики. Таким образом, сторонам гарантирована возможность довести свою позицию до сведения членов комиссии, рассматривающих заявление.
В то же время вопросы доказывания в процедуре рассмотрения заявлений комиссиями регламентированы фрагментарно – из положений Приказа № 263 не следует, что лица, участвующие в рассмотрении заявления, могут представлять какие-либо документы в ходе заседания комиссии, не решена судьба и иных видов доказательств (кроме письменных доказательств, которые фигурируют в Приказе № 263 как «документы»).
Впрочем, на мой взгляд, квазисудебное обжалование должно обеспечивать оперативность рассмотрения дела, и использование всего спектра средств доказывания, известных процессуальному законодательству, вряд ли уместно при квазисудебном урегулировании спора. Сбор таких доказательств, как свидетельские показания, заключение экспертов, аудио- и видеозаписи, может существенно затянуть процедуру рассмотрения жалобы, к тому же далеко не всегда в этом есть необходимость. В любом случае особо сложные дела, требующие установления специфических обстоятельств, могут быть рассмотрены в суде.
Существенным недостатком процедуры рассмотрения заявлений в комиссиях является то, что вопрос о распределении бремени доказывания положениями Приказа № 263 не регламентирован. Как уже указывалось, должностные лица, принимающие оспариваемые решения, должны обосновать их.
Принцип диспозитивности в деятельности комиссий прямо не проявляется. В то же время положения Приказа № 263 не содержат и таких положений, которые препятствовали бы реализации лицам, обратившимся с жалобой, своих прав. Представляется, что было бы целесообразным предоставить лицам, обратившимся с заявлением, право отказаться от своих требований или изменить их в ходе заседания комиссии.
Принцип непосредственности при рассмотрении заявлений проявляется в том, что на заседании члены комиссии исследуют предоставленные документы на предмет подтверждения сведений об объекте недвижимости или их недостоверности (пункт 19 Приказа № 263), а также заслушивают пояснения сторон по существу рассматриваемого заявления. Сведения об этих пояснениях вносятся в протокол заседания комиссии в соответствии с пунктом 18 Приказа № 263. При этом гарантией объективности рассмотрения заявлений выступает то, что решения принимаются посредством открытого голосования, в котором участвуют все присутствующие на заседании члены комиссии согласно пункту 12 Приказа № 263.
Принцип гласности и открытости при рассмотрении заявлений проявляется в том, что за пять рабочих дней до заседания комиссии на сайте территориального органа Росреестра размещается информация о времени и месте проведения заседания, а также сведения о заявителе и кадастровом номере объекта недвижимости, результаты оценки которого оспариваются (пункт 9 Приказа № 263). В соответствии с пунктом 17 Приказа № 263 на заседании могут при- сутствовать не только заявители, но и иные лица.
Единственный принцип административного судопроизводства, который не отражен в деятельности комиссий, – это принцип активной роли органа, рассматривающего дела. Комиссиям не предоставлена возможность истребовать документы, необходимые для рассмотрения заявлений, так же как и право выйти за пределы заявленных требований. Представляется, что такие полномочия должны быть предоставлены комиссиям в целях объективного рассмотрения заявлений.
Если обратиться к результатам деятельности комиссий, то можно утверждать, что даже если решение по спору принимается не в пользу заявителя и кадастровая стоимость недвижимости остается без изменения, то такое решение содержит обоснование позиции комиссии (см., например, [26, 27]). Это свидетельствует о том, что рассмотрение заявлений в комиссиях имеет неформальный характер и направлено на установление обстоятельств, связанных с кадастровой оценкой спорного объекта недвижимости.
Обобщая сказанное, можно утверждать, что комиссии являются квазисудебными органами не только по организационному положению (они обособлены от органов исполнительной власти и не входят в судебную систему), но и по процедуре рассмотрения заявлений, которая во многом похожа на административное судопроизводство. При этом обращение в комиссии не требует существенных расходов, уплаты государственной пошлины и обязательного участия представителя с высшим юридическим образованием.
Резюмируя положения о правовом статусе комиссий, можно отметить, что комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре – яркий пример становления процедуры квазисудебного разрешения административно-правовых споров в Российской Федерации. В нашей стране су- ществуют и иные органы, обособленные от судебной и исполнительной ветвей власти, которые рассматривают споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений. К их числу можно отнести комиссии по апелляциям при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, Палату по патентным спорам, комиссии по служебным спорам и т. д.
Однако не все обособленные органы, наделенные функциями по разрешению административно-правовых споров, следует считать квазисудебными – таковыми могут являться только органы, которые осуществляют процедуры, сходные с судебной.
В связи с этим обозначу свою позицию по вопросу о соотношении досудебного, внесудебного (административного) и ква-зисудебного обжалования. Представляется, что среди перечисленных понятий обобщающим является именно «досудебное обжалование», которое объединяет две разновидности процедур обжалования – внесудебное (административное) и квазисудебное. Внесудебное (административное) и квазисудебное обжалования объединяет то, что эти процедуры, являясь самостоятельными, имеющими значительные отличия друг от друга способами разрешения административно-правовых споров, предшествуют обращению в суд (очевидно, что судебное разрешение спора не может предварять обращение в административный или квазисудебный орган) и поэтому являются досудебными процедурами. Эта позиция согласуется и с нормами существующего законодательства. Так, при обращении в суд лицо обязано указать в административном исковом заявлении сведения о соблюдении обязательного досудебного (то есть необязательно внесудебного или административного) порядка обжалования, если такой порядок установлен федеральным законом (пункт 6 части 2 статьи 125 КАС РФ).
Таким образом, основанием предложенной в статье классификации видов обжало- вания является не принадлежность юрисдикционного органа к судебной системе, а особенности процедуры обжалования. Если при классификации видов обжалования руководствоваться критерием принадлежности юрисдикционного органа к судебной системе, то можно сделать вывод о том, что разрешение спора любым способом, кроме обращения в суд, является внесудебным. Эта позиция не предполагает дифференциацию различных по своей сути досудебных процедур разрешения административноправовых споров, что, как представляется, является ее слабой стороной. Нельзя не отметить, что любая классификация может отличаться некоторой условностью, и обозначенная позиция не может исключать иные точки зрения по этому вопросу.
Таким образом, мы не находим достаточных оснований называть квазисудебную процедуру внесудебной (или административной), а квазисудебные органы – внесудебными (или административными). Если административная процедура обжалования не имеет существенных сходств с судопроизводством (поэтому мы и называем ее внесудебной, то есть никак не относящейся к судебной процедуре), то квазисудебное обжалование во многом близко к административному судопроизводству, что не позволяет, на мой взгляд, относить эту процедуру к числу внесудебных.
В связи с этим представляет интерес позиция Н.И. Бурмакиной по поводу определения вида обжалования в апелляционных комиссиях, созданных при органе кадастрового учета, рассматривающих заявления об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости (далее – апелляционные комиссии). Н.И. Бурмакниа называет порядок обжалования в апелляционных комиссиях внесудебным [28, с. 7].
По моему мнению, апелляционные комиссии также являются квазисудебными органами, рассматривающими споры по квазисудебной процедуре. Правовое по- ложение апелляционных комиссий определено положениями приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 193 «Об утверждении Положения о порядке формирования и работы апелляционной комиссии, созданной при органе регистрации прав, перечня и форм документов, необходимых для обращения в апелляционную комиссию, а также документов, подготавливаемых в результате ее работы» (далее – Приказ № 193).
Процедура обжалования в апелляционных комиссиях соответствует основным признакам квазисудебной процедуры, она практически идентична (за несущественными отличиями) описанной процедуре рассмотрения споров о результатах кадастровой стоимости (вероятно, это можно объяснить тем, что вопросы, рассматриваемые комиссиями, близки и созданы они при одном и том же ведомстве – при Росреестре). Исходя из приведенных аргументов считаю, что апелляционные комиссии являются квазисудебными органами.
Процедура рассмотрения заявлений в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и апелляционных комиссий при органах Росреестра может являться ориентиром для создания и организации деятельности квазисудебных органов по рассмотрению административно-правовых споров в других сферах. Именно ква-зисудебное обжалование позволяет найти золотую середину между внесудебным (административным) и квазисудебным обжалованием. Такой способ обжалования менее формализован, чем административное судопроизводство, не требует несения сторонами и государством существенных издержек. Кроме того, как справедливо отмечается отдельными исследователями, распространение квазисудебного обжалования могло бы обеспечить более оперативное разрешение административно-правовых споров (см., например, [30, с. 55; 31, с. 218]).
При этом не могу разделить мнение В.Б. Вершинина, согласно которому создание квазисудебных органов противоречит положениям части 3 статьи 118 Конституции Российской Федерации и части 1 статьи 4 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», предусматривающим запрет на создание чрезвычайных судов [32, с. 6]). Как уже было указано, квазисудебные органы не являются судами (тем более чрезвычайными) и не осуществляют правосудие. Более того, решения квазисудебных органов впоследствии могут быть обжалованы в суде.
Главное преимущество квазисудебного обжалования состоит не в экономии времени и ресурсов. Эта процедура очень близка административному судопроизводству – сторонам предоставлена возможность высказать свою позицию, а решения квазису-дебного органа не могут иметь формальный характер, они должны быть мотивированы. Это обстоятельство крайне важно для обеспечения законности в государственном управлении. Более того, если принятие решения предусматривает вызов сторон, осуществляется не за закрытыми дверями, то у квазисудебного органа появляется возможность разъяснить заинтересованному лицу мотивы принятия решения, что способствует укреплению авторитета государственной власти среди населения. Вполне возможно, что в случае отрицательного решения по жалобе заинтересованное лицо получит достоверные объяснения по существу принятого решения и откажется от обращения в суд, если перспективы признания недействительным решения квазисудебного органа судом действительно призрачны.
Трудно не согласиться с А.А. Деминым в том, что процедура разрешения административно-правовых споров «не может быть упрощенной, она должна быть адекватной, обеспечивать убеждение граждан в правильности применения к ним правил, установленных государством» [33, с. 38]). Представляется, что квазисудебное обжа- лование при обеспечении надлежащих гарантий защиты субъективных прав может стать процедурой, которая необходима для принятия объективных решений по жалобам физических и юридических лиц без судебного вмешательства в государственное управление. При этом квазисудебное обжалование может стать отличной альтернативой административному судопроизводству только в том случае, если процедура обжалования будет действительно близка к судебной и стороны административно-правового спора получат возможность довести свою позицию до квазисуда (квазисудьи).
Список литературы Квазисудебное разрешение административно-правовых споров в России на примере споров в сфере кадастровой оценки недвижимости
- Караманукян Д. Т. Административная юстиция США: дис.. канд. юрид. наук. Омск, 2013. 165 с.
- Караманукян Д. Т. Административная юстиция США. Омск: Омская юридическая академия, 2014. 122 с.
- Муратова Е. В. Административная юстиция в Австралии: дис.. канд. юрид. наук: М., 2013. 168 с.
- Муратова Е. В. Административная юстиция в Австралии. М.: Российский университет дружбы народов, 2017. 204 с.
- Сажина В. В. Административная юстиция Великобритании: дис.. канд. юрид. наук. М., 1984. 198 с.