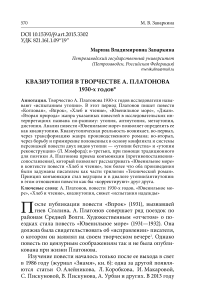Квазиутопия в творчестве А. Платонова 1930-х годов
Автор: Заваркина Марина Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
Творчество А. Платонова 1930-х годов исследователи называют «испытанием утопии». В этот период Платонов пишет повести «Котлован», «Впрок», «Хлеб и чтение», «Ювенильное море», «Джан». «Вторая природа» жанра указанных повестей в исследовательских интерпретациях названа по-разному: утопия, антиутопия, метаутопия, дистопия. Анализ повести «Ювенильное море» позволяет определить ее как квазиутопию. Квазиутопическая реальность возникает, во-первых, через трансформацию жанра производственного романа; во-вторых, через борьбу и примирение положенных в основу конфликта и системы персонажей повести двух видов утопии - «утопии бегства» и «утопии реконструкции» (Л. Мэмфорд); в-третьих, при помощи традиционного для поэтики А. Платонова приема конъюнкции (противопоставления-сопоставления), который позволяет рассматривать «Ювенильное море» в контексте повести «Хлеб и чтение», тем более что оба произведения были задуманы писателем как части трилогии «Технический роман». Принцип конъюнкции стал ведущим и в диалоге утопии/антиутопии: в этом отношении повести «корректируют» друг друга.
А. платонов, повести 1930-х годов, "ювенильное море", "хлеб и чтение", квазиутопия, сюжет "испытания надежды"
Короткий адрес: https://sciup.org/14748950
IDR: 14748950 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.3302
Текст научной статьи Квазиутопия в творчестве А. Платонова 1930-х годов
П о сле публикации повести «Впрок» (1931), вызвавшей гнев Сталина, А. Платонов совершает ряд поездок по районам Средней Волги. Художественным «отчетом» о поездках стала повесть «Ювенильное море» (1931—1932). Она должна была свидетельствовать об «исправлении» писателя, о котором он заявлял на своем творческом вечере1. Однако повесть по цензурным соображениям так и не была опубликована при жизни Платонова.
Изучение повести началось только после ее выхода в свет в 1986 году (журнал «Знамя», кн. 6): одна за другой появляются статьи О. Алейникова, Л. Коробкова, И. Макаровой, С. Пискуновой, В. Пискунова, А. Урбан и других. В 2013 году выходит сборник статей «Поэтика Андрея Платонова», целиком посвященный анализу повести: в нем суммированы достижения по изучению произведения и предложены новые концепции [16].
До сих пор мнения исследователей расходятся: одни считают, что Платонов написал «гимн социалистическому строительству» [18, 18—19], другие — не очень удачное произведение по всем канонам производственного жанра [14, 553], третьи — пародию на производственный роман. Вопрос о «Ювенильном море» как о пародии подняла А. Эпельбуэн, подготовившая в 1976 году первое на Западе издание повести. Исследователь О. Алейников увидел в произведении пародию на рассказ И. Катаева «Новый директор» и роман Ф. Панферова «Бруски» [1, 72]. Х. Гюнтер, сравнив повесть Платонова с «ортодоксальной» схемой производственных романов, пришел к выводу, что писатель сознательно «перевыполняет» официальные требования к этому жанру, в результате чего возникает пародийный эффект [7, 93]. Л. Геллер, признав, что в повести имеются необходимые элементы производственного жанра, тем не менее сомневается, что речь идет о пародии, поскольку нет ни «объекта» осмеяния, ни должных «мотивировок». Исследователь приходит к выводу, что Платонов не писал пародию на производственный роман, а наряду с другими «его создавал» [5, 105, 112].
Исследователи поднимают вопрос о признаках утопии/ антиутопии в произведении. Социальной утопией называет «Ювенильное море» В. Чалмаев [23]. Не разграничивает в повести утопическое и антиутопическое Н. Малыгина [13, 177]. О. Меерсон считает, что в «Ювенильном море» язык «корректирует собственно (авторское) утопическое мышление», что это произведение антиутопическое по форме и утопическое по содержанию [15, 72]. Метаутопией, т. е. произведением с открытым диалогом утопии и антиутопии, называют «Ювенильное море» В. Чаликова [22, 162] и А. Ревич [17, 100].
В данной статье «Ювенильное море» рассматривается как квазиутопия (дословно с греч. — «псевдоутопия», «подделка под утопию»). По словам М. И. Шадурского, к «субжанровым разновидностям литературной антиутопии, в которых также осуществляется ревизия утопического миромодели-рования, принадлежит квазиутопия <…>. Квазиутопиче-ская реальность возводится вокруг утопической модели мира, экзистенциальная несостоятельность которой доказывается авторами <…> иронически <…>. С целью создания эффекта псевдокарнавала квазиутопия оперирует средствами сатиры (пародия, гротеск) и фантастики» [24, 81].
В повести «Ювенильное море» квазиутопическая реальность возникает прежде всего через трансформацию черт жанра производственного романа. В произведении обнаруживаем практически все элементы данного жанра: сюжет строительства, образ героя-энтузиаста, темы труда, участия женщины в социалистическом строительстве, технического прогресса, борьбы нового порядка со старым, подчинения частных интересов общим и т. д. Однако Х. Гюнтер считает, что Платонов использует в повести композиционный прием открывающихся «ножниц», при котором нарастает «расхождение между процессом “строения” <…> и процессом разрушения» [7, 90]. С нашей точки зрения, несмотря на то, что Вермо и остальные герои постоянно в движении, строят планы, борются с подкулачниками и т. д., в повести, за исключением 15 главы (главы отмечены астерисками), нет сцен реального строительства совхоза, в результате чего выделить в сюжете строительную линию можно только условно или обозначив ее как квазистроительную. Процесс строительства подменяется мечтой о строительстве, и более значимым становится движение героя не во внешнем пространстве (от дела к делу), а во внутреннем (от одной мечты к другой).
Кульминационным моментом в развитии квазистроитель-ной сюжетной линии можно считать главу 8, в которой Босталоева назначается директором будущего мясосовхоза, а Вермо инженером. В этой главе достигает своего апогея не стройка, а мечтания Вермо (в следующих главах мечты героя идут «на спад» благодаря рациональным предложениям второстепенных персонажей). В 14-й главе, после сцены псевдокарнавала — своеобразной ритуальной пляски, переводящей действие повести в мифологический и одновременно сказочный план, — герои составляют новый проект, в котором находится место всем их мечтам, а в 15-й главе для развязки сюжета Платонов практически использует прием deus ex machine (в «Родительские Дворики» доставляют необходимые стройматериалы, приезжают помощники-инженеры и начинается строительство).
Квазистроительная линия находится в диалогических отношениях с художественной реализацией в повести мотива «строительство-творчество». С образом Вермо связана тема творческого созидания нового социалистического общества, но Платонов употребляет слово «творчество» с ироническим подтекстом (когда высказывание приобретает противоположное значение). Так, Вермо приходит к выводу, что для построения будущего счастливого мира сначала необходимо расчистить место. Во время похорон Айны он мечтает о счастье, построенном на возмездии: играет «Аппассионату» Бетховена, которая, по словам повествователя, выражает надежду героя «на приближающийся день жизни, когда последний стервец будет убит на земле»2. Акт творчества отождествляется с актом убийства, созидание приравнивается к уничтожению (этот мотив вбирает память не только «Котлована», но и «Чевенгура»). Социалистическая утопия, как показывает Платонов, становится воплощением того, что религиозный философ С. Франк назвал «ересью утопизма» [21], когда из абстрактной любви к человечеству рождается беспощадная жестокость к отдельному человеку, который мешает осуществлению задуманного социального порядка.
Квазиутопическую направленность имеет и образ энтузиаста, которого Платонов рисует как «героя нашего времени» (об этом косвенно может свидетельствовать тот факт, что, не имея возможности опубликовать повесть, писатель переработал ее в очерк «Человек нашего времени»)3. Е. Яблоков делит героев Платонова на три типа (в зависимости от доминирующего начала личности): «естественный человек» (инстинктивно-природное начало), «деятель-утопист» (рационально-волевое начало), «странник» (интуитивно-духовное начало) [26, 195]. В образе Вермо совмещаются два типа: «деятель-утопист» и «странник». Платонов возвращается к образу героя, который был характерен для его ранних научно-фантастических рассказов: сомневающихся, ищущих истину или правду Вощева («Котлован») и «душевного бедняка» («Впрок») сменяет оптимистичный, уверенный, действующий в духе идей времени Вермо.
Однако Платонов дает герою двойственную характеристику, объединяющую и рациональное, и эмоциональное начала: инженер-электрик Вермо окончил музтехникум по классу народных инструментов (352). Образ Вермо автобиографичен: герой так же, как когда-то молодой Платонов, полон надежд на осуществление социализма и связывает эти надежды с электрификацией; верит в возможность освобождения человека от бессмысленного механического труда. Тем не менее, его имя, в семантике которого исследователи усматривают два значения («верно»/«дерьмо» [19, 197—198], [6, 318]), отражает авторскую позицию «веры-сомнения». Е. Яблоков проводит параллель со словом «время», но считает, что Вермо «противостоит» времени, т. к. устремлен в будущее [27, 147]. На наш взгляд, «противостояния» нет: с будущим временем ассоциируется в повести топос мечты. Авторская «вера-сомнение» и мечта героя, обращенная в будущее, объединяются в сюжете «испытания надежды»4: «надежда» предполагает как упование на что-то, так и долю сомнения в возможности достижения искомого. «Принцип надежды» является и основным принципом утопии, по мнению Э. Блоха [2].
Одной из черт жанра производственного романа является изображение такого типа героя, у которого частные интересы подчинены общественным. Платонов воплощает эту установку «поглощением» любовной сюжетной линии (начиная с 8-й главы) квазистроительной. Знакомству Вермо с Босталоевой посвящена 2-я глава, где Вермо впервые обнимает героиню, а, отходя, еще долго сохраняет «приобретенное счастье» (361). В 6-й главе в Босталоеву влюбляется также секретарь партячейки, в уме наряжающий «ее в идеологическое подвенечное платье» (375). После отъезда секретаря (глава 8), когда Босталоева назначается директором совхоза, а Вермо инженером, их разделение по гендерному принципу исчезает: перед нами два работника, и Вермо видит в Босталоевой уже не женщину, а «существо, окруженное блестящим светом социализма» (387). Чем больше Вермо мечтает и строит планы по технической реконструкции совхоза, тем меньше он чувствует себя влюбленным: когда он смотрит в светящиеся от любви глаза Босталое-вой, то сравнивает этот блеск с электромагнитной энергией солнца (389), и это наводит его на мысль о создании оптического трансформатора. Чувства Босталоевой, едва затеплившиеся в ней при встрече с Вермо, тоже претерпевают метаморфозу — она любит Вермо уже не как мужчину, а как ценного работника: «У Босталоевой <…> сжалось сердце, что она еще не инженер и ей нужно излишне любить Вермо» (420).
Отсутствует в повести и само понятие семьи: одиноки Вермо, Босталоева, Високовский, остается один после смерти сестры Айны кузнец Кемаль. Босталоева вынуждена доставать необходимые стройматериалы для совхоза, переступая через свое человеческое достоинство и материнский инстинкт: делает аборт (такова ее «строительная жертва»). По словам Б. Ланина, «утопия всегда пытается подменить семью государством, а антиутопия показывает невозможность такой подмены» [12, 160]. Вместо понятия семьи в традиционном смысле в повести появляется понятие «пролетариат-семья». В набросках к произведению остались слова героини: «Буду любить конкретно свой класс и забуду тебя»5.
Разоблачению квазиутопии способствует тема преобразования природы. В статье «О первой социалистической трагедии» (1934), которая стала идеологическим «ядром» всех повестей 1930-х годов, Платонов признавался, что боится такого состояния дел, когда «техника <…> решает все»6. Этот сталинский девиз7 вложен в уста Вермо: он называет «ощущение техники» «первым чувством <…> жизни» (423). Техницизм Вермо и его отношение к природе как к врагу породили негативные трактовки этого образа, а отношение к человеку как к материалу (389) и мысли героя о том, сколько полезного можно приготовить из человеческого тела (419), — даже обвинения в фашизме [8, 30], [11, 118].
В отличие от повестей «Котлован» и «Впрок» в повести «Ювенильное море» сомнение выражено уже не на уровне героя, а на уровне повествователя. Например, чем больше выдумывает Вермо, чем блистательней его мечта, тем чаще в пейзаже появляются серые, мутные, расплывчатые тона (371). В повести вместо чуда преобразования природы природа сама творит чудеса: об этом свидетельствует, например, образ огромных, выросших в «половину квадратной сажени» тыкв (353). По мнению К. Кларк, романы о социалистическом строительстве должны были, с одной стороны, описывать то, что есть, с другой — то, что могло бы быть [10, 40], т. е. приукрашивать реальность. Платонов обращается в этом случае к фантастике и использует гротеск как тип художественной образности. Вполне реконструктивная мечта Вермо — открыть новые источники энергии и «достать ювенильную воду», т. е. решить проблемы мелиорации в совхозе, — постепенно приобретает гротескно-уродливый характер, т. к. герой задается вопросом: «…не пришла ли пора отойти от ветхих форм животных и завести <…> социалистические гиганты, вроде бронтозавров, чтобы получать от них по цистерне молока в один удой?» (386). М. Булгаков в повести «Роковые яйца» нарисовал страшную картину бездумного использования человечеством возможностей науки. Герой Платонова, как и Рокк у Булгакова, тоже придумывает план по рациональному использованию чудовищ. Деталь, связывающая обоих героев: Вермо и Рокк играют на музыкальных инструментах, но если Рокк после революции сменил флейту на маузер, то Вермо, наоборот, активно использует музыку в постреволюционной борьбе за новую жизнь.
Фантастическим проектам Вермо противостоит в повести реализм мечты Надежды Босталоевой, кузнеца Кемаля, а также некоторых других второстепенных персонажей. Например, Босталоева добывает для совхоза необходимые стройматериалы, дает Вермо задание составить «смету совхозного училища» (384). В то время как Вермо рассуждает о всемирно-историческом значении бурения земли, кузнец Кемаль предлагает резать плиты в ближайшем месторождении известкового камня и строить из этих плит «скотные жилища» (392). Что же касается добычи ювенильной воды, то появившийся только в двух сценах бригадир Милешин сообщает, что эта мысль уже приходила ему в голову год назад, но оказывается, воды здесь нет, «только есть одна сырость, один земляной пот» (387).
Однако в 15-й главе, самой оптимистичной из всех (когда начинается активная стройка), сомнение выражено уже на уровне не только повествователя и второстепенных героев, но и самого Вермо. После прочтения «Вопросов ленинизма» Сталина Вермо начинает ощущать свою «незначительность» и ложится на землю вниз лицом (429). В «Котловане» движение Вощева к земле было связано с его сомнением и разочарованием. В таком случае более значимой будет трактовка фамилии героя, предложенная Е. Яблоковым: от лат. vermis — червь, гусеница. На оборотных листах машинописи повести «Ювенильное море» Платонов делает наброски к роману «Македонский офицер», где также появляется образ человека-червя [27, 147]. Образ человека-червя, сознающего свою ничтожность и глупость по сравнению с величием и мудростью мироздания, можно рассматривать и в контексте державинского «я царь — я раб, я червь — я Бог!», ставшего поэтическим оформлением христианской основы русской культуры (одним из первых, кто обнаружил литературный источник этого образа у Платонова, был В. Васильев). Но если исходить из того, что сомнения в герое появились после прочтения книги Сталина, то образ человека-червя можно трактовать и как образ «маленького человека» новой эпохи, не знающего, как примирить большие государственные мечты и «скучную» действительность. «Маленький человек» у Платонова готов на жертву: творить «сооружение социализма в скудной стране, беря первичное вещество для него из своего тела» (430). Это тоже сближает семантику имени героя с образом червя: как известно, дождевые черви перерабатывают землю, пропуская ее через свое тело. Не случайно в повести Босталоева на очередном собрании теряет от усталости сознание, а Вермо в финале стареет (392, 417). В мире недостроенного социализма рано думать о личном благополучии — мотив героической жертвы, воплощенный в образах главных героев, продолжает тему строительной жертвы повести «Котлован».
Двойное название («Ювенильное море. Море юности») актуализирует два смысла метафорического тождества: это вода, погребенная под землей в «девственном виде» (386) и ждущая своего часа, а также «море» юношеских сил и надежд, зреющее в героях и готовое вырваться наружу. «Плодоносное» море и «плодоносные» мечты героев так и остаются в повести в потенциальном виде: сюжет «испытания надежды» как преодоление разрыва между мечтой и действительностью Платонов оставляет открытым. Таким образом, тема преобразования природы, неся в себе, на первый взгляд, явный антиутопический заряд, содержит и утопический момент: оставаясь в большей степени квазиутопией, «подделкой» под производственный роман, повесть «Ювенильное море», особенно названием и финалом, сближается с утопией.
Усиливает утопическую направленность произведения и конфликт двух утопических сознаний, которые моделируют систему персонажей в повести. Л. Геллер считает, что все герои повести располагаются по научно-технической шкале [5, 111], М. Богомолова — по производственной и любовноромантической линиям [3, 61]. По мнению Е. Яблокова, персонажи живут в разных хронотопах (историческое время, мифическое прошлое, утопическое будущее) [27, 140]. Систему персонажей можно расположить и в зависимости от «утопии», которой они «придерживаются».
Среди многообразия утопий выделяют утопии «эскапистские» и «героические». Л. Мэмфорд, автор монографии «История утопий», определяет их как «утопии бегства» и «утопии реконструкции» [25, 52]. Так, «утопия реконструкции» лежит в основе мечтаний Вермо, поступков Босталоевой и Айны, бдительной деятельности Федератовны, рациональных предложений Кемаля и Милешина. «Утопии бегства» придерживаются Умрищев со своим девизом «А ты не суй-ся!», кулак Священный, подкулачник Божев. «Полюсами» на «шкале» двух утопий в системе персонажей являются Вермо и Умрищев. Повесть открывается «конфликтом» двух разных утопических сознаний: в первой главе идет речь об активной жизненной позиции Вермо и о «теории самотека» Умрищева. В дальнейшем параллельно (а иногда пересекаясь) будут функционировать две линии: преобразовательная и «реакционная», «вредительская», поэтому в исследовательской литературе традиционно противопоставляется Вермо-преобразователь — Умрищеву, оппортунисту и реакционеру.
Противостояние в повести двух утопий при переводе в социальный план можно рассматривать не только как необходимый элемент жанра производственного романа (конфликт старого и нового порядка), но и как попытку решить важный для Платонова вопрос, который он поднимал еще в повести «Впрок»: можно ли построить социализм «самотеком», стихийно? Таким образом, пара «Вермо/Умри-щев» — это и оппозиция «сознательность/стихийность» в развитии истории. По мнению К. Кларк, один из главных вопросов, который волновал идеологов марксизма-ленинизма уже с первых шагов: «…является ли история результатом сознательных усилий людей или исторические изменения происходят спонтанно?» [10, 45]. И если первоначально стихийность признавалась необходимым элементом революционного сознания, то в дальнейшем, при переходе от революционных переворотов к строительству социализма, заговорили о приоритете сознательного начала над стихийным.
Девиз Умрищева «А ты не суйся!», звучащий в повести в противовес выдвинутому Сталиным требованию «Вмешиваться во все!»8, действует не только в пространстве утопического настоящего, но и прошлого, которое герой идеализирует. Умрищев читает о временах Ивана Грозного, признает «целесообразность татарского ига» и мечтает «основать районное негласное оппортунистическое царство, в форме Руси Иоанна Грозного» (358, 375). Парадоксально, но герой мечтает о временах, которые были не менее кровавыми, чем история революционной России. Главный урок, который он выносит из опыта прошлого, — это смирение с любой исторической реальностью, будь то татарское иго или коллективизация. Умрищев «разумно» не хочет «соваться в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова» (358).
Упоминание Ивана Грозного, а также отсылки к незаконченному роману «Македонский офицер» позволяют провести историческую параллель между современной Платонову Россией, Русью XVI века и античностью. В XVI веке споры о лучшем для России типе правления шли между Грозным и бывшим полководцем Курбским, находившимся в эмиграции; в «Македонском офицере» Платонов вводит образ гонимого полководца, наблюдающего несправедливость и жестокость императорской власти. В «Ювенильном море» «невыясненный» Умрищев является единственным критиком власти, возможно, поэтому, несмотря на отрицательную семантику его фамилии (смерть, энтропия), исследователи считают, что Платонов находится на стороне этого героя. Еще В. Турбин провел параллель между именами Андрей и Андриан, а в проблеме «невыясненности» Умрищева увидел «автобиографические черты» [20, 244].
Оппозиция «Умрищев/Вермо» нестойкая, в образах этих героев есть и черты двойничества. Умрищев устремлен в своих мечтах не только в прошлое: он «отдавал мысль любой далекой перспективе, лишь бы она находилась на сто лет вперед или на столько же назад» (353), — а Вермо в воспоминаниях возвращается в прошлое, в свое детство (381). Слова Вермо: «Если б не большевизм, не надежда изменить мир, я кончил бы с собой в ближайшем овраге», — первоначально принадлежали Умрищеву9. Одним из первых, кто «снял» оппозицию героев, был В. Васильев: «Умрищев, по Платонову, не противостоит Вермо; они <…> необходимое единство исторического процесса» [4, 7]. К этому же мнению склоняются и авторы сборника «Поэтика Андрея Платонова» [16].
В финале повести Платонов устанавливает баланс сил, равновесие между «утопией бегства» и «утопией реконструкции». В основе «утопии бегства» заложен элемент сомнения и мудрого, дарованного от природы, инстинкта самосохранения. В «утопии реконструкции» — движение вперед, к переменам, к изменению как природного мира, так и традиционного социального образа жизни народа. Платонов ищет пути совмещения двух жизненных интенций: стихии (которую для советских идеологов олицетворяло крестьянство) и сознательности (которая находит свое воплощение в государственной идее). Опоры в решении этой коллизии писатель будет искать, в том числе, и в творчестве А. С. Пушкина. В 1937 году Платонов предложит свою трактовку «Медного всадника», согласно которой России «нужны оба»: и Евгений, олицетворяющий естественное, природное, патриархальное начало, и Петр, который «по вдохновению жизни, по быстрому, влекущему стремлению к дальним целям исто-рии»10 не может не вызывать симпатии.
Квазиутопическая реальность возникает в произведении и за счет «внутреннего» контекста: художественных параллелей, которые можно провести между повестями «Ювенильное море» и «Хлеб и чтение» <1931>, тем более что они должны были войти, по замыслу автора, в состав трилогии «Технический роман» (третья часть — «Инженеры» — пока не обнаружена). Написанные в одно время произведения на уровне внутреннего художественного времени отделены друг от друга десятилетием. Писатель словно подводит собственные итоги, испытывает свои юношеские надежды. Повести обнаруживают переклички на уровне темы электрификации, сюжета «испытания надежды», типа героя («деятель-странник»), мотивных оппозиций «голод/сытость», «свобода/плен», «хлеб/чтение».
В повести «Хлеб и чтение» тема электрификации — центральная, с ней связаны мечты героев о победе над голодом, безграмотностью, с электрификацией ассоциируется свобода. В повести «Ювенильное море» Платонов также поднимает тему «электрического голода», мешающего человеку быть свободным «для взаимного увлечения» (395). Однако внутри выстроенных мотивных оппозиций и в их корреляции наблюдаем семантический сдвиг. Так, традиционный для Платонова мотив насыщения как заполнения пустоты [9, 12] может иметь обратную перспективу: результатом «единоличной» сытости (кулак Священный в «Ювенильном море») становится еще большая пустота: бесконечная ненасыщае-мость и смерть. Свобода от стихии чувств (Душин в «Хлебе и чтении») делает человека узником собственных и чужих идей, своего сознания. Материализованным знаком этого плена является сторожевая тюремная башня, в которой проживают Душин с Лидой. Наконец, хлеб, который ассоциируется с физическим насыщением, может быть олицетворением жизненной духовности, а чтение (питающее разум и сознание), наоборот, уводить в плен рациональных иллюзий, далеких от жизни (Душин, Вермо).
Образ героя-странника, который в повести «Хлеб и чтение» «распадается» на два образа (Душин и Щеглов), в финале «восстанавливается»: в сцене чтения доклада об электрификации происходит примирение позиций обоих героев. Они объединяются против профессора Преображенского, не верящего (вопреки семантике своей фамилии) в преображение мира и человека с помощью электричества. Оба героя — утописты, но если утопизм Душина рациональный, то Щеглова — сердечный. Рациональное начало, воплощенное в Душине, и эмоциональное начало, воплощенное в Щеглове, найдут выражение в образе Николая Вермо, в двойственной характеристике которого объединяются разум и чувство.
Таким образом, сюжет «испытания надежды» (при амбивалентности понятия «надежда») определил главный принцип построения системы персонажей (особенно образов главных героев), а также мотивных оппозиций в обеих повестях — принцип конъюнкции (противопоставления-сопоставления). Принцип конъюнкции стал ведущим и в диалоге утопии/антиутопии в произведениях: в этом отношении они как бы «корректируют», «дополняют» друг друга. Финалы повестей удерживают утопически-оптимистический вектор. В «Хлебе и чтении» Щеглов решает дожить до того времени, «когда наступят на земле неизвестная радость и неизвестное горе»11. В «Ювенильном море» Вермо и Босталоева (Вермо с Надеждой с большой буквы) едут в Америку, чтобы «научиться добывать электричество из пространства» (432). В обеих повестях герои остаются ориентированными на «дальнего», в пространстве все той же утопической мечты.
В повести «Ювенильное море» Платонов более очевидно, чем в «Котловане», использует «штампы» производственного романа и с явным ироническим подтекстом. Гротескно-гиперболическая форма подачи материала, с одной стороны, превращает повесть в квазиутопию, которая отражает нетерпение времени в желании «сказку сделать былью». С другой стороны, сюжет «испытания надежды», воплощающий в себе юношеские мечты самого писателя (автобиографичность образа Вермо), и энтузиазм молодых строителей социализма (типологичность главных героев, включая Вермо), а также оптимистический финал свидетельствуют о перевесе утопического над антиутопическим в жанровой модели произведения. В «Ювенильном море» и в «Хлебе и чтении» надежда героев базируется не столько на знании, сколько на вере, «испытание» которой станет основой сюжета следующей повести А. Платонова 1930-х годов — повести «Джан».
Примечания
* Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России «Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности XIX—XX вв.» (№ 34.1126).
-
1 См.: Стенограмма творческого вечера Андрея Платонова во Всероссийском Союзе советских писателей 1 февраля 1932 г. // Памир. 1989. № 6. С. 97—118.
-
2 Платонов А. П. Ювенильное море // Платонов А. П. Эфирный тракт: повести 1920-х — начала 1930-х годов. М., 2011. С. 371. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
-
3 Новые материалы к истории текста произведений Платонова 1930— 1931 гг.: «Котлован», «Шарманка», «Ювенильное море» // Архив А. П. Платонова. Кн. 1. М., 2009. С. 244—245.
-
4 В текстах А. Платонова исследователи выделяют «сюжет-путешествие» (Л. П. Фоменко), «сюжет странничества и “думания”» (В. В. Эй-динова), «сюжет спасения человечества» (Н. М. Малыгина), «сюжет прозрения» (В. Н. Турбин), отмечая сложную, многоуровневую структуру платоновского сюжета. Повести А. Платонова 1930-х годов объединяет общий сюжет «испытания», в каждом произведении неразрывно связанный с философской или этической проблематикой: «испытание истины» («Котлован»), «испытание правды» («Впрок»), «испытание надежды» («Хлеб и чтение», «Ювенильное море»), «испытание веры» («Джан»).
-
5 Архив А. П. Платонова. С. 257.
-
6 Платонов А. П. Фабрика литературы: литературная критика, публицистика. М., 2011. С. 641.
-
7 См.: Сталин И. В. О задачах хозяйственников. Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. // Сталин И. В. Сочинения. М., 1951. Т. 13. С. 30.
-
8 Там же.
-
9 Архив А. П. Платонова. С. 258.
-
10 Платонов А. П. Фабрика литературы: литературная критика, публицистика. С. 74—75.
-
11 Платонов А. П. Технический роман. I. Хлеб и чтение // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М., 2000. Вып. 4. С. 936.
Список литературы Квазиутопия в творчестве А. Платонова 1930-х годов
- Алейников О. Ю. Повесть А. Платонова «Ювенильное море» в общественно-литературном контексте 30-х годов//Андрей Платонов: исследования и материалы: сб. тр. -Воронеж: Изд-во ВГУ, 1993. -С. 71-80.
- Блох Э. Принцип надежды//Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. -М.: Прогресс, 1991. -С. 49-78.
- Богомолова М. Зачем Николай Вермо разрушил совхоз (Система персонажей повести «Ювенильное море»)//Поэтика Андрея Платонова. Сб. 1: на пути к «Ювенильному морю». -Белград: Изд-во филологического факультета, 2013. -С. 59-81.
- Васильев В. Андрей Платонов сегодня//Платонов А. П. Котлован: избранная проза. -М.: Кн. палата, 1988. -С. 5-20.
- Геллер Л. Наука и миф, гротеск и поэзия: четыре стихии «Ювенильного моря»//Поэтика Андрея Платонова. Сб. 1: на пути к «Ювенильному морю». -Белград: Изд-во филологического факультета, 2013. -С. 103-133.
- Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья. -М.: МИК, 2000. -432 с.
- Гюнтер Х. По обе стороны утопии: контексты творчества А. Платонова. -М.: Новое литературное обозрение, 2012. -216 с.
- Евтушенко Е. «Психоз пролетариату не нужен». Судьба Платонова//Неоконченные споры: литературная полемика. -М.: Молодая гвардия, 1990. -С. 27-52.
- Карасев Л. В. Движение по склону (Пустота и вещество в мире А. Платонова)//«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. -Вып. 2. -М., 1995. -С. 5-38.
- Кларк К. Советский роман: история как ритуал. -Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. -262 с.
- Колесникова Е. И. Малая проза Андрея Платонова: художественные константы. Принципы публикации. -СПб.: ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 2013. -496 с.
- Ланин Б. Жизнь в антиутопии: государство или семья?//Общественные науки и современность. -1995. -№ 3. -С. 149-163.
- Малыгина Н. М. Образы-символы в творчестве А. Платонова//«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. -М.: ИМЛИ РАН, 1994. -С. 162-183.
- Малыгина Н., Матвеева И. Комментарии//Платонов А. П. Эфирный тракт: повести 1920-х -начала 1930-х годов. -М.: Время, 2011. -С. 511-558.
- Меерсон О. «Свободная вещь». Поэтика неостранения у Андрея Платонова. -Новосибирск: Наука, 2001. -122 с.
- Поэтика Андрея Платонова. Сб. 1: на пути к «Ювенильному морю». -Белград: Изд-во филологического факультета, 2013. -215 с.
- Ревич А. Перекресток утопий: судьбы фантастики на фоне судеб страны. -М.: ИВ РАН, 1998. -351 с.
- Серафимова В. Д. Повесть «Ювенильное море» в контексте творчества Андрея Платонова: автореф. дис. … канд. филол. наук. -М.: Лит. ин-т им. А. М. Горького, 1997. -20 с.
- Толстая-Сегал Е. О связи низших уровней текста с высшими (Проза Андрея Платонова)//Slavica Hierosolymitana. Slavic studies of the Hebrew university. Edited by L. Fleishman, O. Ronen and D. Segal. -Jerusalem. 1978. -Vol. II. -P. 169-212.
- Турбин В. Эпос «Последних известий»//Дружба народов. -1987. -№ 12. -С. 244-246.
- Франк С. Л. Ересь утопизма//Квинтэссенция: философский альманах. -М.: Политиздат, 1991. -С. 378-395.
- Чаликова В. Утопия рождается из утопии. Эссе разных лет. -London: Overseas Publications Interchange, 1992. -217 с.
- Чалмаев В. «Надежды на высшую жизнь»//Литературное обозрение. -1987. -№ 1. -С. 56-59.
- Шадурский М. И. Литературная утопия от Мора до Хаксли: проблемы жанровой поэтики и семиосферы. Обретение острова. -М.: Изд-во ЛКИ, 2007. -160 с.
- Шацкий Е. Утопия и традиция. -М.: Прогресс, 1990. -456 с.
- Яблоков Е. О типологии персонажей А. Платонова//«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. -М.: ИМЛИ РАН, 1994. -С. 194-203.
- Яблоков Е. Контрапункт (Проблема авторской позиции в повести «Ювенильное море»)//Поэтика Андрея Платонова. Сб. 1: на пути к «Ювенильному морю». -Белград: Изд-во филологического факультета, 2013. -С. 134-171.