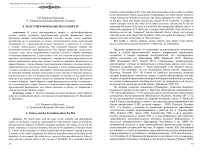Л. Толстой и формалисты о сюжете
Автор: Романова Галина Ивановна, Тышковска-Каспшак Эльжбета
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о научно-философских истоках теории, созданной представителями русской формальной школы. Признавая влияние западноевропейской эстетики, авторы статьи выявляют воздействие на их концепцию не только художественного опыта классической литературы, но и рассуждений русских писателей, в частности Л. Толстого о технике писательского мастерства. Ряд суждений писателя показан как возможный источник идей формалистов. Как пример приведены слова прием, материал, вещь, часто употребляемые в записях Толстого и ставшие терминами в концепции формалистов. Сделан вывод о том, что сходство мыслей писателя и критиков - исследователей его творчества - скрывалось за противоречивостью их оценок современного искусства, которое Толстой не принимал, формалисты же приветствовали, а также общими представлениями классика о позиции автора и нравственной роли искусства. Особо выделены в статье размышления писателя о сюжете, которые во многом предваряют концепцию формалистов. Ряд близких по значению понятий, которые использовал в своих письмах и заметках писатель, свидетельствует о том, что данный аспект формы он понимал не как монолит, но выделял в нем разные стороны задолго до появления концепции В. Шкловского о сюжете и фабуле. Таким образом, теория формализма не только «сочинялась», но и наследовалась, теория Толстого в значительной мере явилась источником представлений формалистов, чем можно объяснить и частоту их обращения к творчеству автора «Войны и мира».
Л. толстой, традиция, поэтика, риторика, сюжет, фабула, событие, литературный прием, конструкция, русский формализм, в. шкловский, б. эйхенбаум
Короткий адрес: https://sciup.org/149139041
IDR: 149139041 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_52
Текст научной статьи Л. Толстой и формалисты о сюжете
Наследие формалистов, их концепция художественного творчества, жизнь и судьба представителей данного направления продолжают оставаться в центре внимания исследователей, что подтверждают работы последних лет [Дмитриева 2009, Ефименко 2019, Левченко 2004, Пильщиков 2015, Francis 2017]. Современные литературоведы констатируют: «трудно не повториться в стремлении сказать свое слово, особенно поднимая вопрос о смене репутаций этой научной школы. Вместе с тем очевидно, что его обсуждение нельзя считать закрытым» [Хализев, Холиков 2015, 8]. Одним из наиболее актуальных аспектов истории формализма становится вопрос о научно-философских истоках теории, созданной представителями русской формальной школы, которые, по словам современника, «вообще ни на кого не опираются и ни на кого не ссылаются, кроме как на себя самих» [Медведев 1928, 59].
Не отрицая «новизны концепции остранения», теоретики выявляют очевидное влияние на нее книги А. Бергсона «Восприятие изменчивости» (1911, русский перевод -1913), отмечая в тексте «почти полное текстуальное совпадение с высказываниями Шкловского» [Хализев, Холиков 2015, 15]. Те же исследователи указали на влияние на ранние статьи Р. Якобсона идей Б. Кроче, высказанных в книге «Эстетика как наука выражения и как общая лингвистика» (1902, русский перевод - 1920) [Хализев, Холиков 2015, 17]. Вопрос о влиянии на концепцию формализма европейских эстетических теорий, затрагивавшийся в работах XX в. [Ханзен-Лёве 2001, Dolezel 1990, Эрлих 1996, Tschizewskij 1966 и др.], приобрел особую актуальность в начале XXI в. и рассматривается как проблема «европейского интеллектуального контекста русского формализма», в частности немецкоязычного [Дмитриева, Чугунников и др. 2009]. Не исчерпанной остается и тема взаимодействия формалистской теории с отечественной эстетической мыслью. В первых статьях В.Б. Шкловский отталкивался от идей, высказанных представителями разных направлений дореволюционного российского литературоведения: А.Н. Веселовского, А.А. Потебни, Д.Н. Овсянико-Куликовского и др. Диалог с их суждениями, переходящий в полемику, очевиден и обсуждался учеными [Чудаков 1990].
Но существует и другой пласт теоретических воззрений, представляющий отечественную филологию, - размышления русских писателей XIX -начала XX в. о специфике литературы, в частности художественной формы. Вопрос о том, насколько учитывались формалистами теоретические искания художников слова, в современной науке практически не затронут. Обращает на себя внимание в этом отношении деятельность Л.Н. Толстого, произведения которого особенно часто привлекались представителями формальной школы в качестве примеров их теоретических догадок. Рассмотреть и систематизировать суждения писателя как возможный источник идей формалистов - цель данной работы.
На примере произведений Толстого рассматривались особенности таких аспектов литературных произведений, как сюжет, композиция, художественная речь. Так, в работах Шкловского, объединенных в сборнике «О теории прозы» (1929), особенности сюжетостроения (само существование особых приемов сюжетосложения, «ступенчатое строение» сюжета, «задержание», параллелизм ситуаций), а также прием подчеркивания детали, искажающий пропорции, «метод остранения» продемонстрированы преимущественно на произведениях Толстого («Холстомер», «Войнаимир», «Крейцерова соната», «Воскресение», «Анна Каренина»), На те же особенности обратил внимание Б.М. Эйхенбаум в книгах, написанных в 1920-е гг.
В академических трудах XX в. эстетика Л.Н. Толстого, суждения о литературе рассматривались в контексте общих представлений о его творчестве как образце реализма XIX в., хотя и отмечалось противоречие теоретических представлений писателя сложности его художественных произведений. Однако ряд «догадок» формалистов вызывает ассоциации с теоретическими рассуждениями Толстого. Среди «Правил литературных» (1853-1854), которые писатель установил себе в начале творческого пути, привлекает внимание настоятельное предостережение: «3) Избегать рутинных приемов» [Толстой 1978-1985, XXI, 114]. Как известно, требование новизны стало одним из принципиальных в теории формалистов. Прием, как и некоторые другие понятия, которые Толстой использовал в записях второй половины XIX в. (вещь, материал и др.), в выступлениях литературной критики первой четверти XX в. приобрели значение терминов. Формалисты, обратившись к художественному творчеству Толстого, писали: «Самый материал обязывает, чтобы мы говорили о приеме» [Эйхенбаум, 2009, 137]. О том же, но намного ранее размышлял и сам писатель, поставив перед собой такие задачи, как поиски «других приемов и языка» [Толстой 1978-1985, XVIII, 707; письмо к Н.Н. Страхову, март 1872 г]. Однако слово «прием» у Толстого имеет и негативный оттенок, характеризуя подделки под искусство: «...досадно было на авторов, как бывает досадно на человека, который считает вас столь наивным, что не скрывает даже того приема обмана, на который он хочет поймать вас» [Толстой 1978-1985, XV, 162]. Такие «обманные» приемы нужны для того, чтобы «производить предметы, подобные искусству. И приемы эти выработались» [Толстой 1978-1985, XV, 128]. Очевидно, что здесь содержится ответ на вопрос о назначении приема, и это заставляет вспомнить суждение Эйхенбаума о том, что необходимо «понять конкретную функцию приема в каждом данном случае. Это понятие функциональной значимости постепенно выдвинулось на первый план и заслонило собой первоначальное понятие приема» [Эйхенбаум 1927]. И в этом отношении (определение функций некоторых приемов в искусстве) Толстой оказался предтечей формалистов.
Толстой относился к писательству, как к ремеслу, которое требует усилий, «работы»: «Надо написать свой роман и работать для этого», -писал он в дневнике (19 марта 1865 г), а литературное произведение рассматривал как материальный результат труда, неоднократно использовал слово «вещь» («возможность сделать великую вещь» [Толстой 1978-1985, XXI, 256, 255]). Вещь - также одно из частотных понятий в теоретических суждениях и Толстого, и Шкловского, и Эйхенбаума. В отличие, например, от Ю. Тынянова, который использовал слово вегць в его буквальном значении: «Гоголь необычайно видел вещи; отдельных примеров много: описание Миргорода, Рима, жилье Плюшкина с знаменитой кучей, поющие двери “Старосветских помещиков”, шарманка Ноздрева. Последний пример указывает и на другую особенность в живописании вещей: Гоголь улавливает комизм вещи» [Тынянов 2002, 305].
Мысль, высказанная Толстым в трактате «Что такое искусство?» (1897): «Сущность дела остается та же, только формы меняются» [Толстой 1978-1985, XV, 115], - если не заимствована, то явно синонимична высказываниям Шкловского. В предисловии к работе «Теория прозы» (1929) сказано, что она «посвящена целиком вопросу об изменении литературных форм» [Шкловский 1929,6]. Здесь же критик утверждал: «.. .новая форма является не для того, чтобы выразить новое содержание, а для того, чтобы заменить старую форму, уже потерявшую свою художественность» [Шкловский 1929, 31]. Единство мысли писателя-классика и критика-формалиста в приведенных высказываниях не бросается в глаза, поскольку признание смены форм по-разному оценивается: Толстой не приемлет искусство, которое «стало вычурно и неясно», приводя в своей работе примеры из Малларме и Верлена, а Шкловский, обращаясь к творчеству футуристов (см. об этом подробнее: [Медведев 1928, 81]), приветствует его. Тем не менее, надо констатировать, что Толстым идея высказана гораздо раньше. Новаторам-формалистам писатель-классик казался «архаистом» [Эйхенбаум 2009, 150], но, видимо, художественная манера и система его теоретических представлений оказались сложнее, испытав влияние общих художественно-эстетических исканий своего времени. Многие суждения Толстого свидетельствуют не только о профессиональном осмыслении литературного творчества, но и о значительном опережении теоретических и художественных исканий своих современников [Романова 2020, 141].
Значительными представляются размышления Толстого о сюжете, в частности о роли сюжетных элементов, те. тех аспектов, которые писатель

называл «история», «канва», «сюжет», «положение», «события» (понятие мотива использовано только в значении «причина»), В критическом очерке «О Шекспире и о драме», цитируя высказывание английского исследователя Г. Галлама о «Короле Лире» Шекспира, Толстой употребляет и термин «фабула» [Толстой 1978-1985, XV, 260]. Само количество близких по значению понятий, которые использовал в своих письмах и заметках писатель, свидетельствует о том, что данный аспект формы он понимал не как монолит, но выделял в нем разные стороны. В этом отношении его размышления о сюжете также во многом предваряют концепцию формалистов.
Мысли об «истории» (фабуле, в терминологии формалистов) встречаются в статье «Кому у кого учиться писать...»: «Я рассказал весьма занимательную историю воровства денег, историю одного убийства, историю чудесного обращения молокана в православие и еще, в форме автобиографии, предложил написать историю мальчика, у которого бедного и распутного отца отдали в солдаты и к которому отец возвращается из солдатства исправленным и хорошим человеком» [Толстой 1978-1985, XV, 20. Выделено нами - ГР, Э.Т.К.]. При этом основой сочинения может быть не только история, но и пословица: «В числе неосуществимых мечтаний мне всегда представлялся ряд не то повестей, не то картин, написанных на пословицы» [Толстой 1978-1985, XV, 11], которая при условии правильно найденного приема разворачивается в историю. Суждения учеников Толстой разделяет на относящиеся к «самой постройке повести», к «подробностям», к «характеристикам лиц». Представляется особенно значимым в аспекте заявленной темы разделение истории и постройки, выделение подробностей. Это еще не «конструкция» и «матерьял» (как будут различать формалисты), но очень близкая им практика «сочинительства». Даже использование писателем выражения «механизм дела» по отношению к написанию повести представляется близким «производственной» терминологии Шкловского, проводившего («заводскую параллель» в своей работе [Шкловский, 1929, 5], или «технологической» [Сухих 2001] поэтике формалистов в целом. Но у Толстого этот механизм оказывается вполне традиционной риторикой, т.к. состоит «в том, чтобы, во-первых, из большого числа представляющихся мыслей и образов выбрать одну; во-вторых, выбрать для нее слова и облечь ее; в-третьих, запомнить ее и отыскать для нее место...» [Толстой 1978-1985, XV, 33].
Учебная риторика как наука схоластическая и сухая негативно оценивалась уже в статьях ВТ. Белинского, однако в житейской и профессиональной практике оставалась основой представлений о правильной речи, предполагающей умение изобретать тему (предмет), воплощать ее в соответствующие выражения (художественная речь) и структурировать (располагать, составлять композицию). Тонкое разделение истории и постройки, явно ощущаемое Толстым-педагогом, остается малозаметным, потому что основной «механизм дела» представлен им с опорой на традиционную риторическую основу
Читая сочинения своих учеников, Толстой отмечает: «странное дело, - все эти описания, иногда на десятках страниц, меньше знакомят читателя с лицами, чем небрежно брошенная художественная черта во время уже начатого действия между вовсе неописанными лицами» [Толстой 1978-1985, XV, 21]. Странным писателю кажется отсутствие экспозиции, в которой традиционно автор представляет (описывает) место действия и действующих лиц. Важнее, чем описание характера с перечислением определенных черт, оказывается рассказ о поступках, в которых проявляется суть личности. Томашевский скажет об этом в своей «Поэтике»: «В процессе сюжетного оформления фабулярного материала надо учитывать следующие моменты: 1) Необходим повествовательный ввод в исходную ситуацию... довольно типичен внезапный приступ (ех abrupto), когда изложение начинается с уже развивающегося действия, и лишь постепенно автор ознакомляет нас с ситуацией героев. В таком случае мы имеем задержанную экспозицию. Это задержание экспозиции бывает иной раз очень длительно - ввод мотивов, составляющих экспозицию, бывает различен» [Томашевский 1996, 185].
С историей, о которой рассказывается, непосредственно связаны приемы рассказывания: вместо чередования описаний и рассказа о событиях, предлагается сочетать их. Таким образом, уже в этой статье, основной смысл которой в утверждении «художественной правды», сказывается представление Толстого об истории (совокупности событий) и способе (приемах) рассказа об этой истории. Сосредоточенный на идеях наивной проницательности крестьянских детей-«писателей», важности подробностей («сентиментальных», в частности), Толстой не формулирует четко мысль о том различии, которое в теории формалистов выйдет на первый план и будет обозначено как «фабула» и «сюжет», но в ретроспекции оно предстает именно таковым. Толстой не только разделяет историю и рассказ о ней (фабулу и сюжет или, в другой терминологической системе, сюжет и композицию), но и указывает на то, как благодаря композиции рассказа прозаическое событие становится художественным. Толстому, используя слова Шкловского, сказанные в адрес современные ему поэтов, «захотелось иметь дело с живой формой». Писатель обращается с Семке и к Федьке, как критик - к поэзии футуристов, которые «творят новое слово из старого корня (Хлебников, Гуро, Каменский, Гнедов) <...> Пути нового искусства только намечены. Не теоретики - художники пойдут по ним впереди всех. ...Осознание новых творческих приемов, которые встречались и у поэтов прошлого - например, у символистов, - но только случайно, - уже большое дело. И оно сделано будетлянами» [Шкловский 1929,41-42].
Вопрос будет оставаться актуальным и в 1920-1930-е гг, в книге Л.С. Выготского «Психология искусства» (1925, опубл. 1965), автор которой размышлял, как надо рассказать историю, чтобы она из «плоского, напоминающего обыкновенный, пресный житейский рассказ» [Выготский
1968, 125] факта, стала художественным произведением?
Представления Толстого об историях, которые изображаются в литературных произведениях, традиционны и остается актуальными до наших дней. Так, он отмечает, что сюжеты могут быть заимствованы «из прежних художественных произведений» или из «из пережитых событий», или «из уголовной хроники или из последнего занимающего общество вопроса, вроде гипнотизма, наследственности и т.п., или из самой древней и даже фантастической области» [Толстой 1978-1985, XV, 136]. В сюжете Толстой выделяет завязку («узел») и «развязку», при этом пытается переосмыслить их значение, определенное еще в «Поэтике» Аристотеля. О «Войне и мире» он писал М.Н. Каткову в 1865 г: «.. .сочинение это <.. .> не имеет такой завязки, что с развязкой у нее [уничтожается] интерес» [Толстой 1978-1985, XVIII, 624]. В одном из вариантов предисловий (№ 3) к роману-эпопее отмечено: «...брак представлялся большей частью завязкой, а не развязкой интереса» [цит. по: Толстой 1978-1985, IX, 434]. Эта мысль будет отмечена Эйхенбаумом и неточно процитирована Шкловским в «Книге о сюжете»: «Как говорит Толстой, брак не конец романа, а начало романа» [Шкловский 1981, 14]).
Основываясь на определении романа как сцепления новелл или событий, Эйхенбаум подчеркнул жанровую особенность ранних замыслов Толстого и специфику сюжета: необычность завязки и развязки: «.. .смерть матери (вообще говоря - традиционный мотив “первого горя”) не служит сюжетным узлом <...> а образует финал, мотивируя остановку повести» [Эйхенбаум 2009, 108]; «вопрос о конце вообще мало заботил Толстого; ему необходимо было только иметь перед собой некоторую перспективу» [Эйхенбаум 2009, 102].
В целом размышления Толстого о сюжете обусловлены его общими представлениями о позиции автора и нравственной роли искусства («Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев - мы ищем и видим только душу самого художника» [Толстой 1978-1985, XV, 241], его «заразительности», поэтому пронизаны оценочными определениями. Так, ученикам писатель предлагал «богатые» сюжеты («Кому у кого учиться писать...»). Современные ему писатели использовали «самые задирающие сюжеты», в рассказе Мопассана «неприличный и ничтожный сюжет». Сюжетные положения, по Толстому, могут быть трагическими, трогательными, смешными («комедия с смешными положениями и лицами») [Толстой 1978-1985, XV, 162, 226, 236, 306]. Обращают на себя внимание характеристики, которые писатель давал событиям: они должны быть актуальными («...что вы думаете о приличии и своевременности такогосюжета»,-писалонА.И.Герценув 1861г. [Толстой 1978-1985,XVIII, 561]) и правдоподобными. Например, о рассказе «Леший» Писемского он отозвался в дневнике в 1853 г: «Что за вычурный язык и неправдоподобная канва!» [Толстой 1978-1985, XXI, 105]. В трагедии Шекспира «Король Лир» отмечается «действие, наполненное неестественными событиями» [Толстой 1978-1985, XV, 268]. Мысль повторена и в трактате «Что такое искусство?»: «...в наше время уже невозможно с интересом следить за ходом событий, которые знаешь, что не могли совершаться в тех условиях, которые с подробностью описывает автор» [Толстой 1978-1985, XV, 280].
Толстой стремился выявить основную пружину действия и причины поступков героев. Так, в одной из дневниковых записей он пришел к выводу, что основа интриги, всех действий в сюжете - стремление к финансовому благополучию: «Странно, что все мы таим, что одной из главных пружин нашей жизни - деньги. Возьмите романы, биографии, повести: везде стараются обойти денежные вопросы, тогда как в них главный интерес (ежели не главный, то самый постоянный) жизни и лучше всего выражается характер человека» [Толстой 1978-1985, XXI, 99]. Это суждение перекликается с мыслями многих русских писателей XIX в. [Романова 2006].
Внутренние (психологические) причины действий представляют главный «интерес» в литературе, и писатель переносит акцент с событий внешних (перипетии) на внутреннее действие (смена настроений, образа мыслей и т.д.). Значение термина характер в высказываниях Толстого связано с психологической мотивировкой поступков. Единство действия и психологии должны подчеркиваться композиционно: «Каждая глава должна выражать только одну мысль или одно чувство», - записал он в дневнике 31 декабря 1853 г. [Толстой 1978-1985, XXI, 108]. С этой точки зрения оцениваются сюжеты Пушкина, где психология скрыта: «Интерес подробностей чувства заменяет интерес самих событий. Повести Пушкина голы как-то» [Толстой 1978-1985, XXI, 98].
В книге «Молодой Толстой» Эйхенбаум, анализируя раннее творчество писателя, констатирует «отсутствие фабулы как композиционного стержня», тот факт, что «сюжетология остается в стороне», «его вещи лишены не только сюжета, но и сказа», его «творчество внесюжетно» [Эйхенбаум 2009, 90, 91], сходство сюжетных приемов у Толстого «не только в Севастопольских очерках и военных сценах “Войны и мира”, но и в “Юности”, и в “Анне Карениной”» [Эйхенбаум 2009, 122].
Критик останавливается и на приеме, отмеченном Шкловским, заключающемся в детализации в сочетании с генерализацией. Толстой «пристально наблюдает за всем происходящим, рассудочно анализирует свои впечатления и - “ничего не понимает”. Так мотивируется остранение...» [Эйхенбаум 2009, 118].
Эйхенбаум, описывая особенности сюжетики Толстого, отвлекается от размышлений писателя об этом аспекте формы литературных произведений. Он не использует толстовскую терминологию: история (фабула), канва, завязка, развязка. Его суждения близки выводам Шкловского о параллелизме как сюжетном приеме у Толстого, который, в отличие от предшествующей традиции, используется «для связывания сцен, в сущности независимых друг от друга - те. параллелизм в чистом виде» [Эйхенбаум 2009, 142].
Яркие парадоксальные высказывания Шкловского, вроде определения
произведений Толстого «формальных, как музыка» [Шкловский 1929, 80], подчеркивали новаторский взгляд на поэтику писателя, в то время как большинство современников обращало преимущественное внимание на его идеологию (в широком смысле). Создавалось впечатление, что теория «сочинялась» [Чудаков 1990, 16]. Как утверждал Эйхенбаум, Шкловский шел «из области теоретической поэтики в историю литературы», формалисты устанавливают «конкретные принципы» и держатся «их в той мере, в какой они оправдываются на материале» [Эйхенбаум 1927]. Соответственно, читатели понимали, что «материал» - это именно художественный опыт эпохи. Такое мнение встречается и в работах нашего времени. Так, например, С.И. Сухих пишет, что для формалистов «характерен принципиальный априоризм: сначала теоретическое “моделирование”, а потом примерка идей и “моделей” к фактам, если до этого дело вообще доходило» [Сухих 2001, 15].
Но материалом могут быть и теоретические представления писателей, а направление размышлений обратным: от высказываний Толстого о своих творческих задачах - к обнаружению решения этих задач в художественных произведениях самого писателя и далее - к формулировке теоретического вывода. Думается, и этот путь исследования был не чужд формалистам, чем можно объяснить и частоту их обращения к творчеству автора «Войны и мира». Хотя рассуждения самого Толстого о поэтике цитировались довольно редко, теория Толстого в значительной мере явилась источником представлений формалистов о приемах сюжетосложения. Применяя эти идеи в анализе его произведений, формалисты судили о творчестве классика «по законам, им самим над собою признанным» (по выражению А.С. Пушкина). Кроме того, систематизировали их и применяли в осмыслении литературного процесса. Именно в формулировках формалистов они вошли в современную теоретическую поэтику. Перефразируя концовку статьи Шкловского «Воскрешение слова», можно сказать, что «осознание новизны творческих приемов - «уже большое дело» [Шкловский 1990, 42]. И оно было сделано критиками-формалистами.