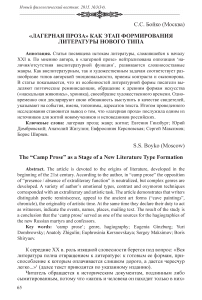«Лагерная проза» как этап формирования литературы нового типа
Автор: Бойко Светлана Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (34), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истокам литературы, сложившейся к началу XXI в. По мнению автора, в «лагерной прозе» нейтрализована оппозиция ‘наличия/отсутствия внелитературной функции', развиваются сложносоставные жанры. Как внелитературным, так и художественным задачам соответствует разнообразие типов авторской эмоциональности, приемы контраста и оксюморона. В статье показывается, что из особенностей литературной формы писатели выделяют поэтические реминисценции, обращение к древним формам искусства («наскальная живопись», хроника), своеобразие художественного времени. Одновременно они декларируют свою обязанность выступить в качестве свидетелей, указывают на события, имена, топонимы, адресатов текста. Итогом проведенного исследования становится вывод о том, что «лагерная проза» послужила одним из источников для житий новомучеников и исповедников российских.
Лагерная проза, жанр, житие, евгения гинзбург, юрий домбровский, анатолий жигулин, евфросиния керсновская, сергей максимов, борис ширяев
Короткий адрес: https://sciup.org/14914510
IDR: 14914510
Текст научной статьи «Лагерная проза» как этап формирования литературы нового типа
К середине ХХ в. роль изящной словесности берется под вопрос: «Вся литература полна отвращением к литературе: к готовым ее формам, приспособление к которым оплачивается слишком дорого, а дается чересчур легко...»1 (далее текст приводится по указанному изданию).
Читатель обращается к историческим документам, подлинным либо сымитированным, потому что «жизнь и человека он находит только в них»
(14). Но в то же время «правда, та правда, с которой имеет дело искусство, вообще не высказывается иначе, как в преломлении, в иносказании, в вымысле» (14).
Когда художественный текст построен на документальной основе, его восприятие связано с оценкой ‘литературности’ и ‘документальности’, которые тем самым как бы противопоставлены друг другу. Это мнимое противоречие преодолимо: «Перед реалистической литературой, непосредственно сопряженной с действительностью, иногда встает опасность растворения в ней, отказа от своей специфики <...> Приходится всякий раз восстанавливать универсальность слова <...> утверждать всеобщность содержания, преодолевая сугубую конкретность деталей»2.
Тяготение одновременно к каждому из полюсов – ‘документальности’ и ‘литературности’ – отличает ряд новаторских произведений середины ХХ в., в частности «лагерной прозы». Из ее обширного массива мы рассмотрим примеры, показывающие, как соединены в одном произведении приемы художественного слова с установкой на правдивый рассказ и к чему приводит это соединение. Подробнее остановимся на произведениях, изученных сравнительно меньше, чем проза А. Солженицына, В. Шаламова, Ю. Домбровского, которая разносторонне освещена филологами.
Книга открыла миру глаза на чудовищную правду о репрессиях в Советской России. Свидетельства о них стали появляться за границей еще до Второй мировой войны. А. Солженицын отмечал в своих очерках литературной жизни : «Сейчас тут, на Западе, узнаю: с 20-х годов до сорока книг об Архипелаге, начиная с Соловков, были напечатаны здесь, переведены, оглашены – и потеряны, канули в беззвучие <...> все было сказано – и все прошло мимо ушей»3.
В послевоенный период за рубежом новые книги об Архипелаге были отмечены как явление литературное. В произведениях писателей второй волны эмиграции «сталинские репрессии 1920-х – 1930-х гг. <...> затронуты всеми без исключения авторами в самых различных по жанру, стилю и объему произведениях»4 (например, в книгах В. Алексеева, Г. Андреева, С. Максимова, Н. Нарокова, Б. Ширяева, до войны переживших каторгу или тюрьму).
В 1962 г. напечатан «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, и разрешение на его публикацию ненадолго открыло тему «необоснованных репрессий» в подцензурной печати СССР.
В дальнейшем тексты-свидетельства распространяются самиздатом. Некоторые публикуются за рубежом: «Колымские рассказы» В. Шаламова (с 1966), «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург (1967), «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына (с 1973), «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского (1978) и др.
Жанровое разнообразие подобных текстов велико, но у них имеются важные общие свойства. Воссоздается пространство тюремно-лагерного ада, с его приметами, характерными персонажами, ситуациями, конфликтами, со специфическим языком. Этого оказалось достаточно для появ-

ления как бы нефилологического, ориентированного только на тематику, понятия «лагерной прозы». Произведения объединяет и первостепенная для бывших узников задача – поведать миру горькую правду. Задача решалась литературными средствами. В ряде случаев подчеркнуто, что текст создается именно как художественный, а не только как мемуарный либо публицистический.
А.И. Солженицын назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Опытом художественного исследования . Подзаголовок указывает на обе составляющие: книга призвана исследовать явление и запечатлеть его в художественной форме. Автор ставил перед собою цель – воздействовать на мировое общественное мнение, чтобы изменились порядки в СССР. В середине 1950-х, в ссылке, ему мечталось: «Мир, конечно, не останется равнодушным! Мир ужаснётся, мир разгневается, – наши испугаются – и распустят Архипе-лаг»5.
Решая свои задачи, Солженицын создает композицию, выдерживающую огромный груз фактов, размышлений и оценок, а также вырабатывает стилистический рисунок, сообразный задачам книги, – его искусство делает текст выразительным, художественно убедительным.
Варлам Шаламов писал «Колымские рассказы» –
«...прежде всего потому, что должен был написать их – по велению долга памяти, о котором впоследствии более отчетливо и страстно сказал Александр Солженицын. Однако при этом Варлам Тихонович никогда не ставил перед своими вещами внелитературных задач – воспитательных или просветительских; он вообще отрицал наличие у искусства какой-либо иной роли, кроме естественно обусловленной его природой. И значение, не меньшее, чем долг памяти, имели для него при написании колымских рассказов чисто литературные задачи»6.
Отрицая внелитературную задачу на словах, Шаламов решал ее на деле, правдиво воссоздавая картины колымского ада.
Литературная установка Юрия Домбровского (1909–1978) схожа с шаламовской. Даже в лагерях, беседуя с будущим писателем Чабуа Ами-рэджиби, – он, по словам младшего соседа, говорил: «...писатель должен читать по возможности много, но не для развлечения, а для того, чтобы анализировать не только проблематику произведения, но прежде всего мастерство автора и арсенал его средств отображения»7.
Во главе угла – мастерство, «арсенал средств». Действительно, «Хранитель древности» и «Факультет ненужных вещей» – новаторские романы, сочетающие интеллектуальность со скрупулезной изобразительностью, символические детали с фактографией, неспешный темп повествования с остротой сюжета – это «необычайный город» в литературе8.
Тюремно-лагерная проблематика для Домбровского не самоцель (Домбровский писал не только о лагерях, он видел себя писателем и помимо этой задачи, вне связи с нею), а элемент художественного целого. Но элемент необходимый. В послесловии (1975 г.) автор говорил: «...я стал
одним из сейчас уж не больно частых свидетелей величайшей трагедии нашей христианской эры. Как же я могу отойти в сторону и скрыть то, что видел, что знаю, то, что передумал? Идет суд. Я обязан выступить на нем»9. Внелитературная мотивация побуждает к труду, который выполняется со всем присущим литературным мастерством.
Евгения Гинзбург (1904–1977) в предисловии к «Крутому маршруту» подчеркивает: уже в тюрьме и лагере она «старалась все запомнить в надежде рассказать об этом тем хорошим людям, тем настоящим коммунистам, которые будут же, обязательно будут когда-нибудь меня слушать», – и «писала эти записки как письмо к внуку»10 (далее текст приводится по указанному изданию). Уже на этапе замысла имелось в виду, что «записки» нужны конкретным людям (хорошим людям, настоящим коммунистам, внуку). Подобная определенность адреса типична для честных коммунистов (вспомним письмо Н.И. Бухарина «Будущему поколению руководителей партии»). В случае Евгении Гинзбург адрес не накладывает ограничений на содержание, поскольку предполагается, что разным хорошим людям нужна истина: «Изголодавшиеся по простому нелукавому слову, люди были благодарны всякому, кто взял на себя труд рассказать “де профундис” о том, как все это было НА САМОМ ДЕЛЕ» (595; «Де про-фундис» – слово из 129 Псалма: «De profundis clamavi ad te Domine», «Из глубины воззвах к тебе, Господи», – но здесь цитируется, вероятно, одноименное письмо О. Уайльда).
Самоназвания «записки» и «хроника» даны в авторском предисловии. В переизданиях книги слово «хроника» становится подзаголовком. Ученый-гуманитарий, Е. Гинзбург прибегает тем самым к литературным ассоциациям с текстами от времен средневековья до XIX в. «Крутой маршрут» и выстроен как хроника: во временнóй последовательности, охватывая немалый промежуток с конца 1934 по середину 1955 г. Слово «записки» как синоним «воспоминаний» также напоминает о прошлом литературы.
Художественное своеобразие «Крутого маршрута» отмечают как филологи Л. Копелев и Р. Орлова:
«Если все это так мне передается, так сохранилось, значит, это не просто документ, не просто “Хроника времен культа личности”. Такое под силу только искусству. И непритязательность, общедоступность, наивность – это не слабости книги, это ее особенности» (Р. Орлова)11.
«В ее прозе глубоко трагедийное художественное повествование брезгливо обтекает грязные пороги, зато иногда оно вспенивается <...> старосветской патетикой и сентиментальностью...» (Л. Копелев)12.
«Непритязательность, наивность», трагизм, патетика, сентиментальность – суть литературные средства, сообразные задаче.
Евфросиния Керсновская (1908–1994) написала воспоминания о ссылке и лагерях в 1963–1964 гг., а затем создала 700 рисунков к ним, выполняя волю своей матери. Дочь знает, что даже такой точный адрес не обеспечит
понимания, но свидетельствовать необходимо по долгу любви: «Нет, дорогая моя! Ты всей этой грустной эпопеи так и не узнала. И не оттого, что ты там, “идеже несть воздыхания”, а оттого, что вся моя жизнь была в те годы цепью таких безобразных и нелепых событий, которые не умещаются в разуме нормального человека...»13 (далее текст приводится по указанному изданию).
Арестованная в Бессарабии, едва занятой советскими войсками в 1940 г., Керсновская была человеком русской культуры и европейской воспитанности, независимо мыслящим, привычным ко всякому труду (она забавлялась оксюморонами, когда ее, фермера, виноградаря, следователь-белоручка называет паразитом). Ее взгляд придает запискам особую яркость, выделяя парадоксы, маловажные для советского человека в силу привычки (когда труженика называют эксплуататором, когда потерявшийся инструмент никто не ищет), подмечая абсурдные детали, значение которых полнее понятно сельскому хозяину (девочка ходит за плугом, в который впрягли дойную корову).
Понятие «мемуары» Керсновская отвергает, предлагая иное: «Это наскальная живопись : пусть неумелые рисунки, начертанные неопытной рукой на стенах пещер, но помогавшие людям представить себе, как их отдаленные предки охотились на мамонтов, каким оружием они пользовались – одним словом, понять их быт и жизнь» (5). Как и в случае с хрониками , указание на древние формы искусства подчеркивает, что мир не такой, каким его рисуют в произведениях последних веков. Мир противоречит норме , которая мыслится как недавно общеизвестная.
Верно и обратное. Повесть «о духе растоптанном», как у Шаламова, связана с поэтикой дробности, когда события не мотивированы ни причинами, ни хронологической последовательностью. В небольшом рассказе герой, оторванный от хода времен, насмерть закрепляется за трагедией сегодняшнего дня.
Иной пафос в книге Керсновской – благодарность жизни вопреки торжеству зла. О. Владимир (Вигилянский), делясь впечатлениями, писал: «Я долго не мог сформулировать ощущение, возникающее во время чтения этой книги. Наконец понял – радость . Да – ужасы, да – кошмары, садизм и беззакония, да – ложь, смерть и унижения <...> И вместе с тем – радость. Радость оттого, что соприкасаешься со свободным человеком»14.
Евфросиния Керсновская и младший из героев этой статьи, Анатолий Жигулин (1930–2000), схожи в том, что они осознанно противостоя- 69
ли победившему в стране злу. Как рассказано в повести «Черные камни» (1988), Жигулин в 1948 г. стал членом «Коммунистической партии молодежи», КПМ, которая выступала «против “обожествления” Сталина (слово “культ” в отношении Сталина стало употребляться значительно позд-нее)»15 (далее текст приводится по указанному изданию). Арестованные, члены КПМ, не в пример многим жертвам террора, получили свои сроки за то, что они действительно совершили.
Глава «Кладбище в Бутугычаге», подводящая к финалу книги, была написана самой первой. В интервью (беседовал В. Огрызко) Жигулин поведал о своей работе над книгой в 1984 г., во время болезни: «У меня – тяжелое заболевание сердца. И я решил – сохранятся мои записи или нет, но надо обязательно рассказать о прошлом. Это мой долг» (6). То же самое провозглашено в тексте повести: «Я – последний поэт сталинской Колымы. Если я не расскажу – никто уже не расскажет. Если я не напишу – никто уже не напишет <...> Кто опишет после моей смерти кладбище в Бутугычаге?» (160). Выполняя долг памяти по отношению к друзьям, он обращается и к младшим современникам: «Чтобы понять, чем было вызвано появление таких организаций, необходимо вспомнить, рассказать молодым читателям <...> о той тяжелейшей лицемерно-лживой атмосфере, которая особенно сгустилась после победоносной Великой Отечественной войны» (32).
На палитре эмоций у Жигулина – и гневное осуждение предателей и палачей, и радостная хвала жизни, и горький плач над замученными, и гордость за высоты человеческого духа. Все это служит публицистическим задачам, одновременно позволяя дать психологические портреты самых разных лиц – от персонажей преступного мира до героев борьбы со сталинщиной.
«Черные камни» названы автобиографической повестью. Из ‘литературных’ приемов Жигулин-прозаик декларирует свободу в обращении с художественным временем: «О дороге моей от 035-й колонии <...> я расскажу позднее – в главе “Побег”, там этот рассказ пришелся более кстати. Читатель уже мог заметить, я многое рассказываю не по порядку, не пишу, как строгий мемуарист, согласно ходу времени и стуку колес» (142).
Современность и даже сами процессы письма и чтения рукописи подчеркнуто присутствуют в повести наряду с прошлым:
«А сию минуту моя жена Ирина, дочитав рукопись до этого места, сказала:
– А ты знаешь, кто вас заложил?
– Нет.
– Коля Остроухов. Он и к оперу ходил...» (180).
Автор «Черных камней» описывает себя как поэта, находящегося в непосредственном общении с современным читателем. Проза становится комментарием к опубликованным стихам, где, пусть неполно, была описана каторга, а стихи дополняют прозу: «На литературных вечерах перед
чтением стихотворения “Кострожоги” [1963. – С.Б. ] я обычно кратко объясняю аудитории смысл этой работы. Здесь скажу подробнее» (130).
Повесть открыта и восприимчива к литературной и фольклорной традиции. В художественное целое входят отрывки произведений разных эпох. Гораций – с рифмованным переводом А. Жигулина (197). Н. Некрасов, С. Есенин, А. Твардовский... Советская массовая песня как портрет идеологии («В бой за Родину», слова Л. Ошанина). «Тюремная» песня («Таганка», «Ванинский порт»), передающая атмосферу этой среды. Коннотации стихотворных включений различны: от глубокого сопереживания до иронии. Поэтика реминисценций играет в «Черных камнях» важную роль, расширяя пространство и время повествования.
События тюремно-лагерной одиссеи Анатолия Жигулина и других заключенных были в СССР еще в разгаре, когда в русском зарубежье стали появляться художественные произведения, связанные с темой репрессий. Так, в США в издательстве имени Чехова в 1952 г. выходит сборник рассказов из жизни ГУЛАГа – «Тайга» Сергея Максимова.
Как и большинство писателей-эмигрантов второй волны, не желавших повредить оставшимся на родине, Сергей Сергеевич Пасхин (до установления подлинной фамилии в литературе фигурировали ошибочные варианты: Паншин, Паршин, Пашин)16 подписывается псевдонимом – Максимов, – который он взял в период организации журнала «Грани» (Мен-хегоф, 1946 г.), будучи одним из его авторов и соредакторов. «Лагерную прозу» Максимов создает уже в конце войны. «Тираж готового сборника рассказов о сталинских лагерях “Алый снег” погиб при бомбежке в 1944 г. в Германии»17. Публикация очерка «История с “Потопом”» (о постановке в лагерном театре) вызывает к 1949 г. отклики эмигрантов, которые еще в России знавали героев очерка – товарищей Максимова по лагерным несчастьям.
Как позднее будет и с Солженицыным, напечатавшим рассказ про «одного зека», отклики укрепляют писателя в его желании «собрать воедино все, что он перенес, рассказать о тех, кого встретил за пять лет лагерного срока. Так, судя по всему, и возник замысел “Одиссеи арестанта”»18. В предисловии к этой книге, сохранившейся в рукописи, Максимов писал: «Цель моей книги – показать, как спланированная Сталиным система террора воплощалась в жизнь. Стараясь быть максимально объективным, я <...> просто рассказываю о том, что я видел и что пережил в советском концлагере за пять лет»19. Это декларация художника-свидетеля.
После переговоров в издательстве Максимов переделал «Одиссею арестанта» в сборник рассказов, значительно меньшего объема20. Отказ от масштабного замысла и поэтика ‘дробности’, по-видимому, носили вынужденный характер для С. Максимова, автора эпического полотна «Денис Бушуев» (1949), уже признанного читателем21.
«Тайга» 22 (далее текст приводится по указанному изданию) сопоставима с малой прозой В. Шаламова. Так, в рассказе С. Максимова «На этапе» описана карточная игра, которую уголовники ведут на имущество сока-
мерников во время этапа, в трюме баржи. Уголовнику Сеньке не везет. Он проигрывает свои брюки – и ставит «новый пинжак» (42), надетый на белобородом старике из соседнего – не воровского – отсека. Пиджак проигран: «Вот чичас потеха будет!» (42)
Схожие обстоятельства знакомы по рассказу В. Шаламова «На представку». Здесь положение жертвы описано как безнадежное. Игра идет у коногона Наумова (параллель с конногвардейцем Нарумовым из «Пиковой дамы» А. Пушкина, подчеркивающая снижение образов), на территории вооруженных уголовников; их много против двоих политических, их быту и нравам уделено основное внимание, что передает ощущение «веса», преобладающей значимости воров в лагерном мире.
В обоих рассказах жертвы оказывают сопротивление. У Шаламова бывший инженер Гаркунов отвергает предложение снять свитер – источник тепла, подарок жены: «Не сниму <...> Только с кожей…»23 (далее текст приводится по указанному изданию). В драке один из нескольких злодеев закалывает героя. Надежды на спасение не было. Рассказчик – беспомощный зритель.
У Максимова старик возражает Сеньке: «Позвольте... Это мой пиджак» (42), – а когда его бьют, громко зовет: «Да помогите же!» (43). Люди, прежде не желавшие «ввязываться в историю», поднимаются на крик и одерживают победу: «Мы бросаемся к месту происшествия. Вскакивают и уголовники. Кое-где тускло сверкают зажатые в руках ножи. Секунда – и началась бы общая кровавая свалка, но уголовники – народ трусливый. Заметив, что политических больше, они быстро стушевались, спрятали ножи и рассеялись по своим местам» (43).
Максимов, как и Шаламов, уделяет внимание экзотике – описанию ритуала и весьма колоритных участников карточной игры. Однако следующие две части рассказа «На этапе» посвящены «политическим» – людям более значимым, нежели мелкое в своей подлости уголовное «зверье» (45). Воссозданы истории сокамерников рассказчика по Бутырской тюрьме – вернувшихся из Харбина эмигрантов – и их друга, который и оказался седым стариком: «Добрый, покорный Сахаров стоически переносил все несчастья» (45).
Пунктиром проведена линия заключенного священника о. Сергия. В начале рассказа он бормочет – «уже давно, тихо и ровно, все одним и тем же голосом» (41). При виде насилия над стариком хватает рассказчика за плечо (сам он, как иерей, не имеет права участвовать в драке), говоря: «Нет... Это так нельзя... нельзя так...» (43). После драки зовет Сахарова в наш отсек: «Там у нас тихо, народ все хороший...» (46). В конце священник перекрестился при известии, что двое «харбинцев» уже расстреляны. Внутренний мотив его поведения – молитва – не назван, но он скрепляет образ человека, имеющего твердые основания своего выбора.
У Максимова победа безоружных людей над вооруженным «зверьем» связана с тем, что в борьбу вступает не только жертва насилия, но и окружающие. Даже тот, кто не дерется, – отец Сергий, – активно сочувствует
сопротивлению. Звучит мотив взаимовыручки.
Притом стало известно, что ни один из трех обвиняемых по «харбинскому» делу не выдержал пыток в Бутырской тюрьме, подписав то, что требовал от них следователь, – полностью либо частично. Но катастрофа не ссорит людей, не делает их «плохими», а их дух – навсегда «растоптанным»: «В подсудной камере они впервые встретились все вместе <...> Мы подружились. Я им рассказывал о себе, они мне – о себе, часто вспоминали годы эмиграции в Харбине, и вспоминали о них всегда тепло. Рассказывали и свое “дело”. Собственно говоря, “дела” никакого и не было, как и у всех нас» (44–45). Герои не клеймят себя и друг друга за то, что не вынесли невыносимого. Как и насельники «политического» отсека, они – «народ все хороший». Мотив солидарности и тема добра отличают созданные Максимовым образы «политических» узников.
У Шаламова, напротив, герой в изоляции: «Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров» (20). Представление о «хорошем народе» герой не прилагает и к самому себе – здесь оно значимо отсутствует. Он как бы и не делает для себя выводов, предполагая впредь пилить дрова в этом крайне опасном месте, а не сидеть «дома», в бараке, где холоднее и нет дополнительной еды.
Для прозы Максимова также характерны мотивы безнадежности и уныния. Так, в концовке рассказа «На этапе» взгляд переводится с людей на окружение – а оно беспросветно: «Сыро, темно, смрадно. Тяжелый, многоголосый храп. А в сердце – тоска и холод...» (46). К подобным финалам Максимов прибегает часто, описывая либо мрак тюрьмы, либо огромный, пустой, темный, холодный мир, безразличный к страданиям героя. Это поддерживает общий пессимистический тон «Тайги», а также и следующей книги – «Голубое молчание» (Нью-Йорк, 1953).
Многие приемы схожи у С. Максимова и В. Шаламова. Сходство предопределено лаконизмом малой формы и задачей правдивого свидетельства. Мрачный колорит, абсурдность, характерные персонажи и происшествия – суть свойства инфернального мира, безотносительно к географической отдаленности Коми от Колымы. У обоих писателей рассказчик понимает природу волчьих законов и лично зависит от них, но внутренне он, насколько возможно, отстраняется от происходящего. Различия, как мы убедились, связаны с личной концепцией человека, с тем, как решается проблема подверженности злу.
Совсем не так, как у С. Максимова, прозвучала тема репрессий в творчестве другого эмигранта второй волны – Б. Ширяева.
Борис Ширяев (1887–1959), старший из героев данной статьи, в лагерях оказался на раннем этапе их развития. «Каэр» (контрреволюционер), участник белого движения, он был в очередной раз арестован в 1922 г. и попал в Соловецкий лагерь, СЛОН, где, в атмосфере произвола садистов, закреплялось выражение «здесь власть не советская, а соловецкая». Там же он задумал описать пережитое.
Исполнить это удалось в послевоенный период, в эмиграции. «После
первого, чисто филологического труда, “Обзор современной русской литературы”, вышедшего по-итальянски (1946), он пишет в Риме свой изначальный рассказ, “Соловецкая заутреня”, ставший камертоном последующей “Неугасимой лампады”»24.
Ключевая для Ширяева тема – «борьба нравственно здоровых сил, оставшихся в народе, за сохранение и будущее возрождение души Рос-сии»25. К возрождению шли крестным путем.
Раскрывая эту тему в книге «Неугасимая лампада» (1954)26 (далее текст приводится по указанному изданию), Ширяев прибегает к сложным и разнообразным композиционным приемам. Рассмотрим для примера объединение сюжетов вокруг ключевого мотива, выстраивание художественного времени, приемы создании образа.
Главы раздела «Сих дней праведники» посвящены образам людей несломленных. Это отец Никодим, считавший всех соседей по тюрьме «своим богатым приходом» (260). Это бывший адвокат, который в советской России стал «правозаступником» (282), а в лагерях останавливал взаимные расправы уголовников – вершил «Последний суд совести в забывшей ее и свое имя России..» (292). Это престарелая фрейлина трех императриц, которая в лагере носила сырые кирпичи по два пуда в лотке, пока не стала уборщицей в камере воровок, заслужив такую милость своим аристократизмом «в лучшем, истинном значении этого слова» (296), а погибла в тифозном бараке, вызвавшись ходить за умирающими. Это механик, который пошел на верную смерть, обеспечивая немыслимый на Соловках побег морских офицеров. Это владыка Иларион (Троицкий), в котором автор видит прямого по духу потомка русских епископов, «властных в простоте своей и простых во власти, данной им от Бога» (339).
Праведность «сих дней» проявлена через смирение и терпение – и активное правдолюбие, «аристократизм в лучшем смысле» – и самоотверженные поступки, исполнение долга и пастырское достоинство.
Художественное время у Ширяева выстроено нелинейно. События одного временнóго ряда могут быть введены в другой, как бы просвечивая. Это заостряет парадоксальность материала. Так, в Кеми узников сажают на пароход, названный по имени «начальника всех лагерей» (84), – «Глеб Бокий». Плохо закрашенное, читается на борту и прежнее имя корабля, сделанного на монастырской верфи, – «Святой Савватий» (5).
Время может раздвигаться от главы к главе, поэтапно раскрывая образ героя, его глубинный смысл. Так Ширяев рисует отца Никодима, известного в лагере как «утешительный поп». В первой главе раздела «Сих дней праведники» – «Преддверие» – обитатели кельи-камеры решаются праздновать Рождество. «По странной случайности мы все были не только разных вероисповеданий, но и религиозного воспитания» (240) – истовый старообрядец, правоверный мусульманин, добропорядочный лютеранин, фанатичный католик, атеист-эпикуреец и православный.
Внезапно входит дежурный охранник-еврей – значит, герои будут сурово наказаны. Но ситуация развивается анекдотически. Старый Шапи-
ро присоединяется к заключенным, заявив: «Я тоже верующий и знаю закон. Все евреи верующие, даже и Лейба Троцкий... Но, конечно, про себя» (249). Православный священник приглашен по традиции. Молитва о. Никодима и каждого, кто по-своему ей вторит, переносит узников в мир Рождества, где даже скоты в вертепе «Радость Господню приемлют» (252). Здесь о. Никодим – один из тех, кто мужественно восстанавливает для себя нормальный порядок жизни.
Знакомство с ним отнесено в следующую главу – «Приход отца Никодима». Иерей противопоставлен рассказчику и безымянным «голосам». В оскверненном Преображенском соборе, куда загоняли прибывающие партии заключенных, люди кажутся червями «в гнилом падле» (253). Но голос-ручеек беседует с голосом-булыжником о сюжете росписи собора. Рассказчику Евангелие представляется несовременным. А для о. Никодима оно имеет прямое отношение к происходящему здесь и сейчас: «Так смотри <...> кто там лежит? Кто бродит? Они! <...> все они очищения просят. Сами не знают, что просят, а молят о нем бессловесно» (263). На Соловках о. Никодим несет собеседнику и пастве Благую Весть.
В третьей главе – «Утешительный поп» – жизнь героя охвачена от времен гражданской войны: «А не обижали вас, батюшка?» – «Нет. Какие же обиды? Ну, пасеку мою разорили... Что ж, это дело военное» (266). О. Никодим крестил, отпевал и венчал – а власти требовали без свидетельства из города не венчать, без врачебного удостоверения не хоронить. Получить эти документы в разумные сроки в деревне невозможно. Так за «должностное преступление» (268) он попал в лагерь. Рассказчик называет ситуацию «анекдотическим парадоксом» (265).
Пастырство о. Никодима доводит его до штрафной роты на Секирной горе: «Отслужил ночью в уголке Светлую заутреню, похристосовался с нами <...> про Воскресение Христово “сказку” сказал, а наутро <...> не встает наш Утешительный» (278–279). В советский период праведник сих дней о. Никодим предстает подлинным исповедником веры.
Рассказы о заключенном архиепископе Иларионе (Троицком) входят в главы о людях, которым его подвиг указал путь спасения. Владыка Ила-рион был узником СЛОНа в 1924–1929 гг. (с годовым перерывом в 1925– 1926 гг. на «отдельную келью»27 в ярославской тюрьме). «Совершенно невольно святитель так поставил себя, что на Соловках стали создаваться о нем легенды. О них мы знаем благодаря полудокументальным-полухудо-жественным очеркам Б. Ширяева»28, – отмечают составители жития, цитируя «Неугасимую лампаду». Книга востребована, поскольку в ней запечатлены черты владыки, в котором видится «реальное воплощение духовной силы Церкви, ее несокрушимой твердыни» (337).
Появлению героя предшествует знакомство с очередным «начальником». Бывший вахмистр Сухов здесь военком, которому велено усилить антирелигиозную пропаганду. На Соловках на каждом перекрестке стоят распятия. Однажды Сухов и выпалил в грудь Распятого: «Получи, товарищ!» (333). Смысл этого события – духовная гибель «стрелка». Рассказ о
ней включает биографию героя, ведется лаконично, на основе несобственно-прямой речи и речевых характеристик: «...и ничего не случилось! Так-то» (333).
Охотник Сухов пошел в море на белуху – и тут лодку захватила шуга. Рыбак владыка Иларион зовет с собою гребцов – «во славу Божию, на спасение душ человеческих» (342). Монахи идут, чекисты воздерживаются. Спустя полсуток лодка вернулась уже с девятью людьми. Рассказ о физическом спасении построен как остросюжетная новелла, с участием многих безымянных, но четко различающихся голосов.
А весною рассказчик шел с Суховым мимо того самого креста – и вдруг убийца размашисто крестится и кланяется: «...День-то какой сегодня, знаешь? Суббота... Страстная...» (344). Рассказчик повторяет слова владыки Илариона, сказанные прежде на берегу: «– Спас Господь! <...> Спас тогда и теперь» (344). Итак, история потаенного духовного возрождения убийцы опирается на жизнеописание военкома, на эпизод погибельной стрельбы и новеллу о плавании в шуге. Владыка Иларион раскрывается в слове о спасении, в поступке, в нравственном воздействии, преобразившем падшую душу.
СЛОН – немыслимое сочетание несовместимых фигур и положений. Ширяев непосредственно сталкивает этот наблюдаемый мир с другими мирами, которые были прежде, здесь же или не здесь. В сопоставлении приоткрывается смысл происходящего, ускользавший от героя, замкнутого в тесноте и безысходности: «Сквозь тьму – к свету. Через смерть – к жизни <...> Подвиг торжествует над страхом. Вечная жизнь Духа преображает временную плоть <...> Так было на Голгофе Иерусалимской. Так было и на Голгофе Соловецкой, на острове – храме Преображения...» (435).
Итак, произведения, касающиеся темы тюрем и лагерей в СССР, отличаются большим разнообразием литературных форм, новаторством в их создании. Побудительной причиной к плодотворным исканиям в области формы послужила внелитературная задача – исполнить долг свидетеля: «Если я не напишу – никто уже не напишет» (Жигулин). Писатели говорят о своей обязанности «выступить на суде» (Домбровский), «быть максимально объективным» (Максимов), утолить голод читателя «по простому нелукавому слову» (Гинзбург). На эти задачи указывают в самом художественном тексте, а также в предисловиях, интервью, дневниках.
Диапазон композиционных решений чрезвычайно широк. Один полюс – лаконичные суровые рассказы С. Максимова и В. Шаламова, сосредоточенные на чудовищных происшествиях в мире «тайги». Другой – сложные, искусно выстроенные композиции Ю. Домбровского, А. Солженицына, Б. Ширяева, рисующие широкую панораму «архипелага» или его островов с их многоликим населением.
Наряду с хронологической последовательностью «записок» (как у Гинзбург, Керсновской) появляются приемы современного искусства: активное включение метатекста в текст, сложное устройство художественного времени (как у Жигулина, Ширяева) и другие способы сопряжения
ситуаций, образов, эпох.
Многообразно используются цитаты и реминисценции (у Гинзбург, Жигулина, Керсновской, Шаламова, Ширяева). В лагерной прозе этот прием постоянен как примета духовной жизни, противопоставленной аду.
В прозе о лагерях воссозданы черты древних форм искусства (хроника, «наскальная живопись», житие). С другой стороны – в ней оригинально совмещаются элементы разных жанров: остросюжетной новеллы, трагедии, анекдота, очерка, хроники, фарса и так далее.
Предлагаемые авторами и читателями ‘традиционные’ жанровые определения («полудокументальные-полухудожественные очерки» Ширяева, «автобиографическая повесть» Жигулина, «роман» Домбровского) неполно отражают комплексный характер жанра. Более удачными оказываются новаторские самоопределения («опыт художественного исследования» Солженицына, «наскальная живопись» Керсновской, «хроника времен культа личности» Гинзбург).
Трагическое присутствует в «лагерной прозе» всегда. При этом авторская эмоциональность предстает в самом широком диапазоне. Мотивы тоски, уныния и безнадежности звучат у всех и доминируют, например, в ряде рассказов Максимова и Шаламова. Горестный плач над замученными, надгробное рыдание слышится во множестве произведений о лагерях, этому посвящены рассказы (как «Надгробное слово» В. Шаламова) либо целые главы произведений.
Гневное осуждение предателей и палачей, пафос инвектив также представлен у всех свидетелей, а доминирует, например, в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына.
Давая свидетельские показания на суде истории, многие писатели (Гинзбург, Домбровский, Керсновская, Солженицын, Ширяев и др.) говорят при этом о силе добра, о победе человечности. Как писал Домбровский в связи с «Хранителем древности», «простой и как будто совершенно бессильный человек – не боится вступать в единоборство с могучими силами зла <...> он борется во имя добра и твердо знает, что оно непобедимо»29.
Писатели-христиане (например, Керсновская и Ширяев) свидетельствуют о силе небесного предстательства за героев. Радостная хвала жизни, устремление «сквозь тьму – к свету» (Ширяев), надежда на возрождение «души России» – такие чувства пробиваются сквозь мрак в произведениях большинства лагерников.
Тем самым в книгах, посвященных тюремно-лагерной тематике, уже к середине века четко обозначились свойства литературы новейшего времени, возродились естественные, врожденные свойства книги. «Это свобода жанрообразования, приводящая к разнообразию форм и всевозможных сочетаний их элементов <...> Это композиционные решения <...> объединение разнородных фрагментов на основе смысловой дополнительности <...> Это принцип свидетельства»30. Исполнение свидетельского долга типологически сближает новейшую книгу со средневековой, где, как, например в древнерусской литературе, «подавляющее большинство повество-
вательных текстов отмечено априорной достоверностью, особой установкой, которую можно было бы назвать ожиданием правдивого рассказа»31.
Произведения, лежащие в разных руслах, не сообщающихся между собой, – в России и в Зарубежье – оказываются схожими не только фактурой, но и поэтикой. Русская литература разных ветвей находится в одном и том же этапе своего развития. Изучение прозы второй волны эмиграции показывает, что этап наступил к середине ХХ в., хотя в подцензурном тексте в СССР его свойства начинают проявляться значительно позднее.
Список литературы «Лагерная проза» как этап формирования литературы нового типа
- Вейдле Вл. Умирание искусства. М., 2001. С. 13
- Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох//Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 38
- Солженицын А. Бодался теленок с дубом: очерки литературной жизни. Paris, 1975. С. 417
- Бабичева М. Писатели второй волны русской эмиграции. М., 2005. С. 14
- Солженицын А. Бодался теленок с дубом: очерки литературной жизни. Paris, 1975. С. 315
- Неклюдов С. Третья Москва//Шаламовский сборник. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 162-166. URL: http://shalamov.ru/memory/66/(дата обращения 18.10.2015)
- Амирэджиби Ч. Нужные вещи//Домбровский Ю. Хранитель древности; Факультет ненужных вещей. М., 1990. С. 5
- Турков А. Что же случилось с Зыбиным?//Знамя. 1989. № 5. С. 228
- Домбровский Ю.
- Штокман И. Стрела в полете//Домбровский Ю. Хранитель древности; Факультет ненужных вещей. М., 1990. С. 15
- Гинзбург Е. Крутой маршрут. М., 1990. С. 4
- Копелев Л., Орлова Р. Евгения Гинзбург в конце крутого маршрут//Гинзбург Е. Крутой маршрут: хроника времен культа личности: в 2 т. Т. 2. Рига, 1989. С. 330
- Копелев Л., Орлова Р. Евгения Гинзбург в конце крутого маршрута//Гинзбург Е. Крутой маршрут: хроника времен культа личности: в 2 т. Т. 2. Рига, 1989. С. 338
- Керсновская Евфр. Наскальная живопись. М., 1991. С. 7
- Вигилянский Вл. Житие Евфросинии Керсновской//Керсновская Е. Наскальная живопись. М., 1991. С. 13
- Жигулин А. Черные камни. М., 1989. С. 28
- Любимов А. Возвращение: к 40-летию со дня смерти Сергея Максимова//Новый журнал. 2007. № 246. URL: http://magazines.russ.ru/nj/2007/246/lu18.html (дата обращения 18.10.2015)
- Любимов А. Между жизнью и смертью: судьба и творчество писателя Сергея Максимова. Ч. 2//Новый журнал. 2009. № 255. URL: http://magazines.russ.ru/nj/2009/255/lu12.html (18.10.2015)
- Любимов А. Между жизнью и смертью: судьба и творчество писателя Сергея Максимова. Ч. 2//Новый журнал. 2009. № 255. URL: http://magazines.russ.ru/nj/2009/255/lu12.html (18.10.2015)
- Любимов А. Между жизнью и смертью: судьба и творчество писателя Сергея Максимова. Ч. 2//Новый журнал. 2009. № 255. URL: http://magazines.russ.ru/nj/2009/255/lu12.html (18.10.2015)
- Любимов А. Между жизнью и смертью: судьба и творчество писателя Сергея Максимова. Ч. 2//Новый журнал. 2009. № 255. URL: http://magazines.russ.ru/nj/2009/255/lu12.html (18.10.2015)
- Бабичева М. Писатели второй волны русской эмиграции. М., 2005. С. 102
- Максимов С. Тайга. Нью-Йорк, 1952. С. 42
- Шаламов В. Несколько моих жизней. М., 1996. С. 20
- Талалай М. Борис Ширяев: еще один певец русского Рима//Toronto Slavic Quarterly: Academic Electronic Journal in Slavic Studies. URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/21/talalaj21.shtml (accessed 18.10.2015)
- Бабичева М. Писатели второй волны русской эмиграции. М., 2005. С. 370
- Ширяев Б. Неугасимая лампада. М., 2014
- Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский: житие. 2-е изд., исп. М., 2010. С. 48
- Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский//Православный информационный интернет-портал Православие.ру. URL: http://days.pravoslavie.ru/Life/life4812.htm (дата обращения 18.10.2015)
- Домбровский Ю.
- Штокман И. Стрела в полете//Домбровский Ю.О. Хранитель древности; Факультет ненужных вещей. М., 1990. С. 9
- Бойко С. «Непознанный мир веры»: формирование литературы нового типа//Новый филологический вестник. 2014. № 3 (30). С. 27
- Каравашкин А.В. Литературный обычай Древней Руси (XVI-XVI вв.). М., 2011. С. 19