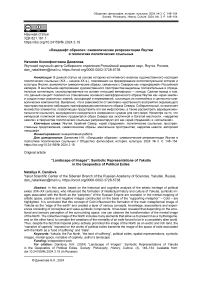«Ландшафт образов»: символические репрезентации Якутии в геопоэтике политических ссыльных
Автор: Данилова Н.К.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье на основе историко-когнитивного анализа художественного наследия политических ссыльных (XIX - начала ХХ в.), повлиявших на формирование интеллектуальной истории и культуры Якутии, выявляются символические образы, связанные с Севером как «периферией» Российской империи. В ментальном картировании художественного пространства выделены положительные и отрицательные коннотации, сконструированные на основе «несущей метафоры» - холода. Сделан вывод о том, что данный концепт повлиял на становление основного метафорического образа Якутии как «края земли» и создал пласт различных знаний, ассоциаций и переживаний, состоящих из понятийных и ценностно-символических компонентов. Выявлено, что в зависимости от эмотивно-чувственного восприятия окружающего пространства можно наблюдать трансформацию ментального образа Севера. Собирательный, он включает множество элементов, позволяющих представить его как мифологему, а также рассмотреть вариации ментальности ссыльного, вынужденного находиться в совершенно чуждом для него мире. Несмотря на то, что имперской политикой активно продвигался образ Севера как экзотичной и богатой местности, «нарратив неволи» в творчестве политических ссыльных репрезентирует его как «край страданий» и «испытаний».
Якутия, Крайний Север, «край страданий», политические ссыльные, пространственные представления, символические образы, ментальное пространство, нарратив неволи, авторский ландшафт
Короткий адрес: https://sciup.org/149145349
IDR: 149145349 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.24158/fik.2024.3.19
Текст научной статьи «Ландшафт образов»: символические репрезентации Якутии в геопоэтике политических ссыльных
Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Якутск, Россия, ,
Введение . Современное восприятие геокультуры ставит вопрос об основаниях и механизмах конструирования ее ментальных основ и обуславливает необходимость рассматривать их «исторически, в контексте не только повседневного, но также и символического освоения пространства» (Головнева, 2016: 211). Здесь особое значение приобретает концепция гуманитарной географии, которая представляет собой один из новых этапов в изучении теоретических проблем российской гуманитарной науки, связанных в первую очередь с общими закономерностями формирования и развития этнических сообществ в пространстве и времени (Замятин, 2024: 25).
Если Якутия раньше считалась частью обширного пространства Сибири, то сейчас территория республики относится к федеральному округу Дальнего Востока. Тем не менее в сознании многих жителей самой Якутии и страны в целом она ассоциируется с Восточной Сибирью.
Еще в середине XIX в. В.И. Далем впервые было выделено «сибирское наречие» наряду с московским, новгородским и др., а также зафиксирована лексема «сибиряк» в значении «житель, уроженец Сибири»1. Как отметила Е.В. Головнева, именно к этому периоду относится формирование «сибирячества» как специфической географической региональной группы (Головнева, 2016: 212).
Начиная с XVIII вв. исследование формирования и становления ментального образа Сибири является одной из актуальных тем как у российских, так и зарубежных ученых. Среди них можно отметить наиболее интересные для нас монографии, затрагивающие имперскую политику освоения Сибири Д. Дальмана (2016) и Л.М. Дамешека (2018); исследования Я. Кусбера (Kusber, 2008), В. Сандерленда (Sunderland, 2001) о ментальном картографировании Сибири и труды А.В. Ремнева о «символическом» освоении данного региона (2013), научные статьи Е.В. Головневой, М.К. Чуркина и др., детально раскрывающих формирование сибирских образов в «воображаемой географии» и сибирской идентичности в процессе колонизации региона (Головнева, 2016; Чуркин, 2014).
В целом, историография изучения образа Сибири, начиная с XIX в. обширна, чего нельзя сказать о Якутии. Но следует отметить, что в последнее время изучение геокультурных образов Якутии, арктических геокультур и онтологических моделей воображения пространства получило новый, весьма продуктивный вектор развития (Геокультуры Арктики: методология анализа и прикладные исследования …, 2017; Ландшафт и культура народов Якутии: сакрализация, символические стратегии, геокультурные образы …, 2023 и др.). В этом контексте представляется важным исследование вопроса становления и формирования ментально-географического образа Якутского края, на основе взаимовлияния географической и культурной среды, семантики знаковых мест и пространственных представлений.
В данной статье предпринята попытка историко-когнитивного анализа художественного нарратива политических ссыльных, оказавших основное влияние на формирование «ландшафта образов», связанных с Якутским краем как топосом «холодных земель», где пересекаются как положительные, так и отрицательные коннотации.
Основная часть . В ментальной карте Сибири важными параметрами конструирования геокультурных образов Ленского края (затем – Якутского края) являлись географические и природно-климатические условия, этническая мозаика, сложные исторические судьбы, самобытные культуры и языки, а также «воображение пространства» (или «ландшафт образов»), транслируемое через художественное восприятие путешественников, ученых-исследователей, политических ссыльных и т.д.
В XIX в. началась планомерная разработка программ освоения Сибири, в которой огромную роль сыграла правительственная публицистика. Она усиленно развивала «поэтическую формулу Сибири», воспевающую красоту и экзотичность северных территорий, а образы локальных природных и культурных ландшафтов становились «репрезентационным экраном окружающего мира» (Калуцков, 2008: 14).
Успешное продвижение данной политики стало возможным благодаря активной интеллектуальной экспанции. В число основных задач деятельности научных экспедиций входило исследование природных богатств и географических условий обширных и недостаточно изученных северных просторов Российской империи. Вместе с тем благодаря деятельности ученых-исследователей создавались новые, мифические, «вызывающие интерес» геокультурные образы Якутии и Севера, определяемые через концепт холода.
Так, И.Г. Гмелин, один из активнейших участников Второй камчатской (Великой северной) экспедиции, собирал материал, находясь в Якутии почти год – с сентября 1736-го по июль 1737-го г., «испытывая особый интерес к стуже сибирского воздуха»2.
Другой ученый-исследователь, путешественник И.Г. Георги писал, что в якутских землях «голод и стужа вечное свое жилище имеют»1.
А.Ф. Миддендорф (участник Сибирской экспедиции 1842–1845 гг.), основатель мерзлотоведения, Якутский край прозвал «гнездом стужи и мороза»2.
Таким образом, из «незнаемой» и «виноватой» Якутский край, как и вся Сибирь, постепенно преобразовывался в «далекую, суровую, экзотическую» страну, где холод является основным катализатором жизни инородцев (Головнева, 2016: 215).
Значительную роль в этом сыграла практика обязательного включения «рисовальщиков» в состав научных сухопутных и морских экспедиций, духовных миссий и различных комиссий «для снятия видов». Впоследствии выходили в свет богато иллюстрированные дневниковые записи, письма, воспоминания, созданные авторами на основе собственных наблюдений и впечатлений, полученных в ходе поездок, миссий, экспедиций, странствий, официальных визитов.
Одним из таких изданий, имевших большое историко-культурное значение, является «Путешествие по Восточной Сибири И. Булычова»3 в двух книгах. Особую ценность ему придают иллюстрации – 64 литографии, на которых изображены различные виды ландшафта Восточной Сибири и населяющие ее народы4. Хотя в атласе не было указано имя художника, совместными изысканиями польских и сибирских ученых позднее было установлено и доказано, что иллюстратором являлся ссыльный поляк Леопольд Немировский, участник польского национально-освободительного движения. Именно он был включен в качестве «рисовальщика» в экспедицию на Тихоокеанское побережье и Камчатку под руководством И.Д. Булычева. Имперская политика тех времен требовала, чтобы иллюстратор показал в красках положительные стороны холодного и далекого края. Действительно, великолепные пейзажи Л. Немировского отражают красоту и мощь сибирской природы, но обращают на себя внимание и изображения его «печальных» персонажей. Можно сказать, что эмотивное пространство художественного текста передает внутреннее состояние самого Л. Немировского и транслирует образ пространства ссылки, ассоциируемого с Сибирью как «краем страданий» и «испытаний».
Следует отметить, что появление с XIX в. в ментальной карте Сибири данного метафорического образа в большей степени связано с художественным и мемуарным наследием политических ссыльных. Сложение стереотипных представлений о Якутии как о «крае страданий» начинается с тех времен, когда царская система стала посылать туда «неугодных людей и преступников» для отбывания наказания и превратила северные провинции в «обширную тюрьму».
Первое упоминание о Якутске и Якутии в целом появилось в поэме поэта-декабриста Кон-дратия Рылеева «Войнаровский» (1825)5, где рассказывалась о тяготах якутской ссылки в стиле мрачного романтизма:
«… Никто страны сей безотрадной, обширной узников тюрьмы,
Не посетит, боясь зимы, и продолжительной, и хладной …»6
Так, с этих строк начинается формирование метафорического образа «тюрьмы без решеток», где концепт холода получает символическое осмысление и высокую степень авторской рефлексии как минус-пространства.
Продвижение данного образа в широкие массы произошло благодаря творчеству русского писателя, критика и декабриста А.А. Бестужева-Марлинского7. Якутия в его художественном мире преподносится как место «… страшнее могилы! Самая смерть связана с мыслью о жизни, а здесь она не дышала»8.
Тем не менее, как показывают эго-документы Бестужева-Марлинского, будучи в Якутске, он «… отдохнулъ душой, ожилъ новою жизнью. Все краткое лѣто провелъ … на воздухъ, рыща на конѣ по полю, скитаясь съ ружьемъ по полямъ»1. А в письмах к родным из Кавказа, Бестужев-Марлинский не раз говорит о том, «что почел бы за счастие разрешение вернуться в Сибирь»2.
Положительное восприятие Якутии отразилось в пейзажном мышлении А.А. Бестужева-Марлинского, которое характеризуется красочным образно-смысловым и мифологическим спектром. Его слова о якутской природе приводит Ф.Г. Сафронов: «Когда солнце появляется на небосклоне, то алмазныя кисти и нити и кружева зыблются, блещут, роняют искры; блестки порхают по воздуху, лучи всходят и волнуются, как жатва. Тени деревьев, отражены, увеличены туманом, возникают из земли, как великаны, приемлют фантастические образы башен, колоколен, столбов, целых замков» (Сафронов, 1955: 61). В целом, надо сказать, что А.А. Бестужев-Марлинский ввел в художественное пространство два бинарных ментальных образа, репрезентирующих Якутию как «край страданий» и «первозданной природы».
Декабрист Н.А. Чижов3, отправленный в Олекминский округ Якутии на пожизненную ссылку, дополнил «ландшафт образов» мотивом одиночества и обреченности:
Но во мглѣ на брегу
Распознать я могу,
Будто въ солнечный день,
Нучи4 скорбную тѣнь.
Хищный вранъ на горахъ
Расклевалъ его прахъ5.
Как продолжение традиции А.А. Бестужева-Марлинского, в стихотворении «Нуча» и балладе «Воздушная дева», Чижовым используются мифологические сюжеты и переплетение реальных и ирреальных миров:
Здѣсь пустая страна,
И дика, и страшна,
Здѣсь собранье духовъ;
Съ вѣчно-снѣжныхъ гольцовъ
Ихъ слетается рой
Въ часъ полночи глухой6.
Так, выстраивая в поэтических образах кодированные мифологические образы и доминантные символы пространства, Н.А. Чижов открыл в русской литературе новое направление – сибирский романтизм7.
Если вся территория Якутии воспринималась как «край страданий», то арктические округа (Верхоянский и Среднеколымский) считались еще и «краем земли», куда отправляли самых неблагонадежных и опасных политических ссыльных, где экстремальная повседневность должна была их сломить. У людей, впервые столкнувшихся с чуждыми для их менталитета суровыми климатическими условиями, образом жизни и народами, появляется «неспособность самостоятельно решать основные жизненные проблемы, в силу чего у них возникают разного рода страхи и фобии» (Смирнова, 2017: 14). Чувство собственной беспомощности, невозможности повлиять на происходящее вокруг сближается с чувством несправедливости происходящего. Отсюда и попытки вырваться на свободу, девиантное поведение и самоубийство, но основная масса ссыльных была вынуждена приспосабливаться к новым природным и социокультурным условиям. Важным фактором адаптации при этом становилось сохранение своей этнической, религиозной и культурной идентичности, транслирующей разные стороны модели поведения (Валюх, 2014: 160).
В этом контексте внимания заслуживает сибирская мемуаристика, в которой отражена не только жизнь и повседневный быт конкретных людей, но также и история того времени и сложение метафорических представлений, связанных с местом ссылки как «нарратива неволи». Воспоминания политических ссыльных являются полем реализации концептов, связанных с экстремальной повседневностью и воображением пространства «холодных земель». При этом можно отметить, что один и тот же концепт, например, холод, может быть окрашен разными коннотациями и обременен множественными символическими нагрузками, которые напрямую зависят от индивидуального «проживания и переживания пространства».
В.П. Ногиным, политическим ссыльным, отбывавшим наказание в Верхоянском округе в 1912–1914 гг., была написана книга «На полюсе холода» (1919), художественное пространство кото-рой опирается на несколько образов-символов, имплицитно рефлектирующих эмотивное состояние автора: путь/дорога и пароход «Лена» –образы, уносящие в неизвестный, «чужой» мир; сырой и холодный дождь передает гнетущее душевное состояние; грязная палуба репрезентирует неприятие места; а почта обозначает связь с большим миром; музыка же олицетворяет собой потерянную свободную жизнь; остановки во время пути – чувство свободы на короткое время и т.д. Верхоянск в его художественном мире предстает как полюс холода, где «жизнь застыла в своем вечном сне». Тем не менее В.П. Ногин подчеркивает, что «имен-но холод не дал умереть ему от тоски, а полярная ночь – открыла доселе не известные ему таланты сопротивления неприятной обстановке»1.
Одним из политссыльных, чья жизнь оборвалась в Верхоянье, является С.А. Стопани, бывший студент учительской семинарии, участник революционного движения «Хождение в народ», поэт-памфлетист. Предположительно именно он является автором ставших позднее популярными среди русских казаков Верхоянья и Колымы строк:
Верхоянскій край унылый,
Край морозныхъ дней!
Ты назначенъ мнѣ могилой
По злобѣ людей.
Я умру; въ долинѣ Яны
Трупъ зароютъ мой.
Будутъ пурги, ураганы
Мой будить покой.
Не напрасны здѣсь могилы
Миръ и тишина.
Никакія въ жизни силы
Не нарушатъ сна.
Р.И. Бравина, Н.К. Данилова приводят свидетельство колымского политссыльного И.В. Шкловского, отметившего, что «стихи верхоянского поэта проникнуты духом уныния, безысходности и отчаяния» (Бравина, Данилова, 2022: 127).
Одной из знаковых фигур, связанных с Верхояньем и Колымой – Крайним Севером, является польский ссыльный В.Л. Серошевский, попавший туда в 18-летнем возрасте. В Якутии он провел 12 лет, за это время холод и различные испытания не сломили его, а наоборот – сделали из него известного исследователя якутской этнографии и художника пера. В.Л. Серошевский в своем труде «Якуты. Опыт этнографического исследования» о народе саха (якутов) писал как о «закаленном, легко приспосабливающемся племени, обещающем превратиться в сильный народ» (Серошев-ский, 1993: 234). Возможно, жизненная стратегия якутов и побудила В. Серошевского пройти свой «ландшафт испытаний» через экстремальную повседневность, раскрыть свой интеллектуальный потенциал и сохранить в себе образ Сибири «как милого сердцу места» (Данилова, 2022: 290).
Особенностью авторского ландшафта В. Серошевского является то, что его научное и художественное наследие формировались параллельно, и это способствовало раскрытию глубинной связи географического образа с мироощущением человека как «ментального поля на границе культурной или образной географии и литературы» (Армон, 2001: 162; Замятин, 2002: 159; Данилова, 2022: 288).
В мифопоэтическом пространстве народа саха образ Севера устойчиво ассоциируется с периферией, границами. Верхоянье, куда попал В. Серошевский, в символической топографии обозначается как Крайний Север – предел обитания человеческого мира. Для многих политссыльных он стал местом не только отчуждения, но и неминуемой гибели. Для В. Серошевского, которому только исполнилось 18 лет, данный топос явился местом не физической, а символической смерти, в результате которого произошло перерождение в новом качестве. Так, прослеживается мифологический сценарий: символическая смерть – рождение новой личности. В этом контексте в художественном пространстве творчества В. Серошевского, отражающем Верхоянский период, значим топос моря – первородного, бушующего, земного воплощения космического Хаоса, которое освобождает автора от ощущения фатальной обреченности, даруя ему новую жизнь. Север из радикально иного и чужого мира становится местом инициации, а топос моря превращается в аналог материнского лона, в котором рождается новая личность и новый жизненный сценарий для нее. Так начинается второй период его ссылки за полярным кругом – Колымой (Данилова, 2022: 294). Третий период, ознаменовавшийся возвращением на родину, ярко отразился в эпистолярном и художественном наследии В. Серошевского: негативный образ Северного края постепенно меняется и обрастает положительными качествами уже «своего» пространства, отчасти потому, что в нем осталась «якутская» дочь писателя – Мария Серошевская.
Заключение . В художественном наследии, оставленном в якутском интеллектуальном пространстве политическими ссыльными, доминируют представления о суровой природе Севера, актуализируется тема безлюдности, дикости, недосягаемого и предельно удаленного края как в реальном, так и в метафизическом смыслах. Собирательный образ Севера включает множество элементов, позволяющих представить его как мифологему, а также рассмотреть вариации ментальности ссыльного, вынужденного находиться в совершенно чуждом для него мире.
Дореволюционные ссыльные, например В. Ногин, С. Ковалик, В. Серошевский, Ф. Кон, внесли огромный вклад в интеллектуальное и культурное наследие Якутии. Они стали также и подлинными «гениями места», знаковыми личностями, имена которых повлияли на образ территории Верхоянского округа и Крайнего Севера.
Наполнение поэтических строк негативными мифологическими сюжетами и образами отражают тяжелые нравственные переживания человека, сформированного в иной сфере пространственных воображений. Эти образы-символы репрезентируют отрицательное восприятие Севера. Анализ конкретных экзистенциальных опытов политических ссыльных, отбывавших свой срок в Верхоянском крае, показывает, что именно холод создает условия для стрессовых, кризисных и переломных моментов судьбы и уничтожает человека, а для некоторых становится катализатором адаптационного механизма.
Список литературы «Ландшафт образов»: символические репрезентации Якутии в геопоэтике политических ссыльных
- Армон В. Польские исследователи культуры якутов. М., 2001. 172 с.
- Бравина Р.И., Данилова Н.К. Верхоянские якуты: историко-этнографические сюжеты по материалам А.А. Саввина // Верхоянские якуты. Материалы Северной экспедиции А.А. Саввина (1939–1940 гг.). Якутск, 2022. С. 120–132.
- Валюх Е.П. Адаптация польских ссыльных в Сибирском обществе (вторая половина XIX века) // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (Вестник КГПУ). 2014. № 4 (30). С. 159–162.
- Геокультуры Арктики: методология анализа и прикладные исследования / под ред. Д.Н. Замятина, Е.Н. Романовой. М., 2017. 504 с.
- Головнева Е.В. Формирование образа Сибири в процессе ее колонизации // Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2016. № 4 (4). С. 211–220.
- Дальман Д. Сибирь с XVI в. и до настоящего времени. М., 2016. 559 с.
- Дамешек Л.М. Избранное: в 3 т. Иркутск, 2018. Т. 3. Сибирские окраины Российской империи (XVIII – начала ХХ века). 256 с.
- Данилова Н.К. «Воображение Севера» в авторском ландшафте В.Л. Серошевского // Научный диалог. 2022. Т. 11, № 6. С. 288–301. https://doi.org/10.24224/2227-1295-2022-11-6-288-301.
- Замятин Д.Н. Вообразить Россию: к становлению геокультур и метагеографий Северной Евразии. СПб., 2024. 476 с.
- Замятин Д.Н. Определение геопоэтики // Геопоэтика и географика. 2002. № 4. С. 159–163.
- Калуцков В.Н. Ландшафт в культурно-географических исследованиях // Известия РАН. Серия географическая. 2008. № 4. С. 11–19.
- Ландшафт и культура народов Якутии: сакрализация, символические стратегии, геокультурные образы / под общ. ред. Е.Н. Романовой, Н.К. Даниловой. Новосибирск, 2023. 344 с.
- Ремнев А.В. Колонизация Азиатской России: имперские и национальные сценарии второй половины XIX – начала ХХ века. Имск, 2013. 237 с.
- Сафронов Ф.Г. Декабристы в якутской ссылке (к 130-летию со дня восстания декабристов). Якутск, 1955. 123 с.
- Серошевский В.Л. Якуты: опыт этнографического исследования. М., 1993. 713 с.
- Смирнова О.В. Свобода и ответственность человека в экстремальных ситуациях: историософский аспект // Экстремальное в повседневной жизни населения России: история и современность (к 100-летию русской революции 1917 г.) СПб., 2017. С. 13–18.
- Чуркин М.К. Сибирь в «воображаемой географии»: к вопросу о современном научно-исследовательском дискурсе // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. 2014. № 2 (2). С. 81–85.
- Kusber J. Mastering the Imperial Space: the Case of Siberia. Theoretical Approaches and Recent Directions of Research // Ab Imperio. 2008. № 4. P. 52–74. https://doi.org/10.1353/imp.2008.0081.
- Sunderland W. Peasent Pioneering: Russian Peasant Settlers Describe Colonization and the Eastern Frontier, 1880–1910 // Journal of Social History. 2001. Vol. 34, iss. 4. P. 895–922. https://doi.org/10.1353/jsh.2001.0070.