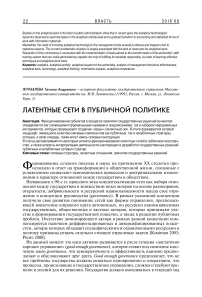Латентные сети в публичной политике
Автор: Журавлева Татьяна Андреевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Государственная политика
Статья в выпуске: 6, 2016 года.
Бесплатный доступ
Функционирование субъектов в процессе принятия государственных решений во многом определяется как сложившимся формальными нормами и предписаниями, так и набором неформальных инструментов, которые провоцируют создание «серых» (латентных) зон. В итоге формируется сетевой ландшафт, имеющий в качестве ключевых компонентов как публичные, так и непубличные структуры, которые, в свою очередь, также могут иметь сетевые конструкции. В статье рассматриваются некоторые аспекты функционирования латентных сетей в публичном пространстве, а также вопросы интерпретации деятельности участвующих в разработке государственных решений публичных и непубличных сетевых структур.
Сетевые структуры, латентные отношения, принятие государственных решений
Короткий адрес: https://sciup.org/170168442
IDR: 170168442
Текст научной статьи Латентные сети в публичной политике
Ф ормирование сетевого подхода в науке на протяжении XX столетия происходило в ответ на трансформации в общественной жизни, связанные с усложнением социально-экономических процессов и доктринальными изменениями в характере отношений между государством и обществом.
Начавшаяся в 90-е гг. прошлого века концептуализация сети как набора отношений между государством и множеством иных акторов на основе равноправия, открытости, добровольности и ресурсной взаимозависимости нашла свое отражение в концепции руководства ( governance ). В рамках указанной концепции получило свое развитие понимание сетей как формы управления, предполагающей вовлечение широкого круга автономных, но ресурсно взаимозависимых государственных, общественных и частных акторов, которые принимают участие в формировании государственной повестки, а также в решении публичных проблем. Отсутствие доминирующего актора в рамках данной концепции компенсируется наличием дифференцированных и диверсифицированных подсистем, акторы которых обладают специфическими и ограниченными ресурсами и поэтому призваны решать отдельно стоящие отраслевые задачи [Kooiman 2003; Pierre 2000].
На данный момент эта идея активно развивается в русле течения «достаточно хорошее управление» (good enough governance), которое ставит под сомнение ключевую идею governance, что демократичность и эффективность взаимно предполагают и обусловливают друг друга. Good enough governance предполагает, что не все проблемы государства должны решаться одновременно и оперативно, что процессы, происходящие в государственном управлении, сложны и требуют времени и усилий для их решения. Государство должно вмешиваться в текущий ход событий «по требованию», исходя из выявленных приоритетов, сформированных, в свою очередь, на базе исторических и текущих особенностей становления государства, а также быть открытым для обсуждения с участием всех возможных заинтересованных сторон [Grindle 2004].
Подобная система общественных отношений требует особого типа управления – сетевого, предполагающего наличие разнообразных координирующих механизмов, позволяющих не только учесть стратегии отдельных акторов, но сформировать консенсуальное решение поставленной проблемы, которое, в свою очередь, было бы соизмеримым и соответствовало принятым решениям в рамках иных подсистем [Rethemeier, Hatmaker 2007; Provan, Kenis 2007].
Система сетевого управления характеризуется следующими признаками:
-
– субъекты и их действия взаимозависимы и относительно автономны;
-
– связи между участниками представляют собой каналы передачи и/или обмена ресурсами;
-
– политическая структура может быть интерпретирована как определенная модель длительного взаимодействия между субъектами [Wasserman, Faust 1994];
-
– влияние того или иного субъекта может быть установлено лишь в рамках взаимодействия с другими участниками политического процесса [Knoke 1990].
Необходимость интерпретации деятельности различных компонентов, действующих в указанной системе общественных отношений и участвующих в разработке государственных решений, их реализации, а также в вопросах формирования и отправления государственной политики в целом, становится все более и более актуальной задачей как в теоретическом, так и в практическом аспектах [Klijn, Koppenjan 2000; Compston 2009; Koliba, Meek, Zia 2011].
Еще в начале 70-х годов прошлого столетия Х. Хекло, исследуя деятельность правительств и проверяя на прочность теорию «железных треугольников», отметил, что политика не имеет самоопределения и уникального набора решений, субъектов и институтов [Heclo 1978].
Отсутствие указанного «конечного набора» приводит к формированию неопределенной структурной композиции в рамках политического пространства, расширяя тем самым поле возможностей при решении той или иной проблемы либо при принятии того или иного решения. Очевидно, что в рамках подобной неопределенности должен срабатывать некий компенсационный механизм – как существующий наряду c формально закрепленными институционализированными механизмами и способами коммуникации, так и заменяющий их. Так, Б. Дамхарт говорил, что сети могут оказывать влияние на формирование политики и ее выражение и вне рамок публичного сетевого управления [Damgaard 2005]. Указанный механизм в силу своей компенсирующей природы носит неявный (латентный) характер и находится вне рамок публичного политического дискурса.
Логично предположить, что чем шире круг вовлекаемых в принятие решений субъектов, тем большей неопределенностью обладает процесс принятия решений и, следовательно, тем больше возникает «серых» зон, где превалируют описанные выше неинституционализированные отношения. Однако если вопросы сетевых взаимодействий в публичной политике в науке довольно проработаны [Compston 2009], то проблемы, связанные с деятельностью латентных сетевых образований и их соотношением с публичной сферой, представлены лишь точечно.
Тенденция поиска скрытых форм проявления власти всегда являлась объектом критики. Тем не менее исследования неинституционализированных форм отношений в системе государственного управления активно проводились с середины 60-х гг. Так, С. Лукс в середине 70-х гг. сделал попытку теоретически обосновать
«второе» и «третье» лица власти [Lukes 1974], а в исследованиях М. Кренсона и Дж. Гэвенты в 80-х были теоритически обоснованы и практически применены многомерные модели государственного управления [Crenson 1971; Gaventa 1980].
Одно из наиболее интересных объяснений проявления скрытых форм отношений в политическом дискурсе дано в исследовании Дж. Скотта «Господство и искусство сопротивления: скрытые транскрипты». Автор анализирует действие механизмов власти при употреблении «публичного» (открытая интеракция между властными и подвластными) и «скрытого» (дискурс, который имеет место «за сценой», вне непосредственного наблюдения со стороны субъекта власти) речевых транскриптов, формирующих господство одних социальных групп над другими.
Публичное взаимодействие – это внешнее проявление между субъектом и объектом, в условиях же отсутствия «зрителей» дискурс строится абсолютно иным образом. Каждая властная группа, по мнению Дж. Скотта, формирует свой скрытый транскрипт, который определяет реальные мотивы принятия государственных решений.
В последнее время в научной литературе наиболее полно критика подобных представлений о процессе принятия государственных решений представлена К. Доудингом. По мнению ученого, в дискуссии по поводу проявления власти справедлива критика простых моделей, поскольку формируемые на их основе теоретические концепты не отражали практического положения дел. Однако, с другой стороны, «расширение сферы власти снимало с видимых субъектов власти ответственность за свои действия» [Dowding 1995].
Доудинг согласен с тем, что одномерный подход был более чем неадекватным в силу отсутствия полного анализа выявления мотивации субъекта при принятии управленческих решений, а именно принималось во внимание только действие – без учета анализа выбора между имеющимися вариантами. Будучи приверженцем теории рационального выбора, ученый подчеркивает, что в данной ситуации игнорируется проблема коллективного действия, что формирует некорректное представление о распределении власти в обществе.
Критика же автора направлена на так называемую ошибку обвинения ( blame fallacy ), суть которой заключается в том, что любые действия политического актора могут квалифицироваться как результат скрытого осуществления власти, хотя такие действия могли быть вызваны и сложившейся ситуацией, и нехваткой ресурсов, либо какими-то иными факторами.
Доудинг вводит различие между «властью результата» ( outcome power ) (способность актора достигнуть результата или способствовать его достижению) и «социальной властью» (способность актора намеренно изменять структуру стимулов другого актора для достижения результата), определяя, что «группы могут не иметь власти результата и без влияния на них других акторов, обладающих социальной властью» [Dowding et al. 1995: 265]. Автор настаивает, что «скрытые формы власти» оказываются либо совокупностью благоприятных для субъекта условий, либо отсутствием мобилизации объекта (то есть, отсутствием «коллективного действия»).
Подобное объяснение представляется достаточно логичным: при отсутствии внешнего фактора, а именно власти над субъектом, действия актора будут всегда соответствовать его интересам, которые напрямую связаны с возможностями выбора и ресурсами. Более того, важно подчеркнуть идею К. Доудинга о необходимости разграничения между ситуацией, когда результат зависит только от субъекта власти, и случаями, где он осуществляет свои действия за счет структурных факторов.
В отечественной науке А.И. Соловьев, вводя функциональное разграничение властной и управленческой подсистем государства, подчеркивает, что возникающая неопределенная композиция государственного регулирования общественных связей в рамках открытого характера подобного разделения является ключевой предпосылкой для формирования латентных связей, которые могут формировать полутеневой и теневой способы хозяйственно-перераспределительной деятельности. Таким образом, в государстве формируются некие структуры совместного действия, субъекты которых наряду со своим официальным статусом могут отклоняться от формально закрепленных норм и правил и профилировать свою профессиональную деятельность в сторону групповых интересов [Соловьев 2011].
Безусловно, действие любого политического актора обусловлено определенным набором внутренних и внешних интересов, которые прямо связаны с набором реальных и потенциальных возможностей и ресурсов, которые могут быть реализованы в различных плоскостях политического пространства. Так, любой шаг в публичном и непубличном пространстве определяется точкой в многомерной системе координат взаимосвязанных политических субъектов, каждый из которых обладает своим набором интересов, возможностей, ресурсов. Принятие (равно как и непринятие) того или иного решения в рамках данной взаимозависимости влечет ряд последствий, которые не всегда могут быть однозначно спрогнозированы даже в краткосрочной перспективе.
При допущении того, что наряду с публичными сетевыми образованиями, являющимися акторами принятия решений, существуют также и подобные латентные структуры, заполняющие «серые» зоны с высокой степенью институциональной неопределенности, можно говорить, что процесс принятия государственных решений и выработка государственной политики в целом носят также многоуровневый характер и проходят предварительную и(или) параллельную проработку в непубличной сфере. Институциональная неопределенность в данном случае формирует условия для реального функционирования политических субъектов, а публичная политика носит исключительно символический характер.
Определение типа сети, как публичной, так и непубличной, не всегда может быть однозначным. Многие российские и зарубежные эксперты придерживаются мнения, что при наличии гражданских структур сеть приобретает публичный характер. Вместе с тем данный показатель является необходимым, но не достаточным, поскольку гражданские структуры могут вносить свой вклад в деятельность сети публичным статусом и играть роль «публичного рупора», озвучивая информацию «правильным» образом с целью получить необходимый результат в виде общественной поддержки.
С целью повышения объективности оценки разработки и принятия того или иного государственного решения необходимо проведение более комплексного анализа сетевых акторов, вовлеченных в данный процесс. Предлагаемые параметры анализа представлены в табл. 1.
Совмещение публичной и непубличной повестки сейчас как нельзя лучше можно видеть в преддверии выборов в Государственную думу. С одной стороны, создается впечатление обновления партийных рядов (самый яркий пример – «Единая Россия», убравшая из своих рядов непопулярных министров образования и финансов), и существует четкое понимание того, что будущий состав законодательного органа будет значительно левее. С другой – «независимые кандидаты», лояльные партии формируют «удобную» риторику, не снижающую авторитет партии власти и идеи единственно возможного лидера. Фактически
Таблица 1
|
Параметр |
Критерии |
Комментарии |
|
Источники формирования сети |
Ценностные |
Сеть формируется на основании приверженности идее, ценности, типу мировоззрения, конфессии и проч. |
|
Проблемные |
Сеть формируется для решения какой-либо общей для участников проблемы |
|
|
Десизиональные |
Сеть формируется для принятия определенного решения |
|
|
Информационные |
Сеть формируется для обмена информацией и не носит предметный характер |
|
|
Ресурсные |
Сеть создается для обмена ресурсами (как правило, материальными), их передачи, перераспределения |
|
|
Смешанные |
Сеть формируется на основании нескольких критериев, однако имеет преимущественный критерий |
|
|
Структурные характеристики сети |
Открытый/закрытый характер сети |
Определяется числом и качеством барьеров на входе/выходе |
|
Тип связей в сети относительно иерархии |
В сети могут сосуществовать как вертикальные, так и горизонтальные связи. В сложных сетевых образованиях могут также возникать параллельные коалиционные группы |
|
|
Тип связей по источникам формирования |
Источниками формирования служат отношения, ставшие причиной для вступления в сеть: профессиональные, образовательные, служебные, экономические, ресурсные, дружеские и проч. |
|
|
Тип связей по характеру текущих отношений |
Текущие отношения между участниками сети могут отличаться типами отношений по источникам формирования или совпадать с ними |
|
|
Плотность сети |
Данный показатель отражает, насколько СОНКО пересекаются или «связаны» друг с другом |
|
|
Кластеризация сети |
Показывает наличие ключевых акторов сети, их влияние на сеть в целом и на отдельных периферийных игроков |
|
|
Тип участников сети |
По сферам |
Представители общественной, частной, административной, политической сфер |
|
По отраслям |
Представители экономической, финансовой, социальной, экологической, международной и т.д. отраслей |
|
|
По ресурсам |
Носители материальных, административных, информационных и проч. ресурсов |
|
|
По потребностям и интересам |
Участники сети несут в себе или представляют интересы широких групп населения, корпоративных интересов и проч. |
|
Характер взаимодействия участников сети |
Открытый/закрытый по отношению к участникам сети |
Отражает характер распространения информации между участниками сети |
|
Открытый/закрытый по отношению к внешней среде |
Показывает характер распространения информации о деятельности сети |
|
|
Стабильность взаимодействия |
Отражает периодичность взаимодействия участников сети |
|
|
Интенсивность взаимодействия |
Показывает число и качество взаимодействия участников сети (например, при обмене ресурсами) |
|
|
Механизмы взаимодействия |
Отражает наличие норм, правил, степень их формализации |
|
|
Координация взаимодействия участников сети |
1. Степень формализации и регламентации отношений внутри участников сети: распределение полномочий, ролей, обязанностей 2. Наличие/отсутствие ключевых центров принятия решений («хабов») |
|
«новые лица», публичные структуры представляют интересы все тех же про-властных групп.
«Склеивание» публичных и латентных сетевых структур при принятии государственных решений и формировании государственной политики в целом приводит к доктринальному изменению самой сущности государственного управления. Набирающий обороты корпоративный профиль деятельности и фактическое превращение публичной политики в политику символичную может привести к кризисам структурного характера не только в экономике (которые мы сейчас наблюдаем), но и в социальной жизни общества. Понимание сути принимаемых государственных решений, т.е. того или иного группового интереса, лежащего в их основе, позволяет оценить последствия совершаемых действий и снизить возможные негативные последствия, пусть и в локальном масштабе.
Список литературы Латентные сети в публичной политике
- Соловьев А. И. 2011. Латентные структуры управления государством или игра теней на лике власти. -Полис. Политические исследования. № 5. С. 70-98
- Compston H. 2009. Policy Networks and Policy Change. Putting Policy Network Theory to the Test. New York: Palgrave Macmillan. 272 p
- Crenson M.A. 1971. The Un-Politics of Air Pollution: a Study of Non-Decisionmaking in the Cities. Baltimore and London: The Johns Hopkins Press
- Damgaard B. 2005. Do Policy Networks Lead to Network Governing? -Welfare Systems and Policies Working Paper. Vol. 3
- Dowding K. 1995. Model or Metaphor? A Critical Review of the Policy Network Approach. -Political Studies. Vol. 43. P. 136-158
- Dowding K., Dunleavy P., King D., Margetts H. 1995. Rational Choice and Community Power Structures. -Political Studies. Vol. 43. No 1. P. 265-277
- Gaventa J. 1980. Power and Powerlessness. University of Illinois Press
- Grindle M.S. 2004. Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. -Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions. Vol. 17. Is. 4. P. 525-548
- Heclo H. 1978. Issue Networks and the Executive Establishment. -The New American Political System (ed. by. A. King). Washington: American Enterprise Institute. P. 87-124
- Klijn E.-H., Koppenjan J.F.M. 2000. Public Management and Policy Networks. Foundations of a Network Approach to Governance. -Public Management. Vol. 2. No 2. P. 135-158
- Knoke D. 1990. Political Networks: the Structural Perspective. Cambridge University Press. 290 p
- Koliba Ch., Meek J., Zia A. 2011. Governance Networks in Public Administration and Public Policy. London; New York: CRC Press. 349 p
- Kooiman J. 2003. Governing as Governance. London: Sage Publications. 256 p
- Lukes S. Power: A Radical View. Basingstoke and London: Macmillan. 1974
- Pierre J. 2000. Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy. Oxford: Oxford University Press. 272 p
- Provan K., Kenis P. 2007. Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. -Journal of Public Administration Research and Theory. Vol. 18. No 4. P. 229-252
- Rethemeier K., Hatmaker D. 2007. Network Management Reconsidered: An Inquiry into Management of Network Structures in Public Sector Service Provision. -Journal of Public Administration Research and Theory. Vol. 18. No 5. P. 617-646
- Wasserman S., Faust K. 1994. Social Network Analysis: Method and Application. Cambridge University Press. 825 p