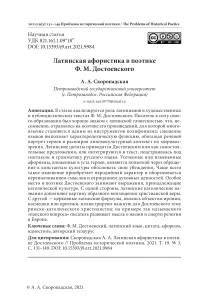Латинская афористика в поэтике Ф. М. Достоевского
Автор: Скоропадская Анна Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется роль латинизмов в художественных и публицистических текстах Ф. М. Достоевского. Писатель в силу своего образования был хорошо знаком с латинской словесностью, что, несомненно, отразилось на его поэтике, для которой многоязычие становится одним из инструментов полифонизма: смешение языков выполняет характерологическую функцию, обогащая речевой портрет героев и расширяя лингвокультурный контекст их мировоззрения. Латинские цитаты приводятся Достоевским или как самостоятельные предложения, или интегрируются в текст, подстраиваясь под синтаксис и грамматику русского языка. Усеченные или измененные афоризмы, вложенные в уста героев, являются попыткой через обращение к константам культуры обосновать свои убеждения. Чаще всего такое изменение приобретает пародийный характер и оборачивается переиначиванием смыслов и отрицанием духовных ценностей. Особое место в поэтике Достоевского занимают выражения, принадлежащие католической культуре. С одной стороны, латинские католические названия дополняют картину образного воплощения христианской веры. С другой - церковные латинские формулы, являясь объектом иронии, насмешки или критики, иллюстрируют важную для Достоевского тему римско-католического христианства: на примере так называемого «папского вопроса» писатель развивает мысль о жизни и смерти религии в Европе.
Ф. м. достоевский, латинский язык, цитата, афоризм, идиостиль, авторский тезаурус
Короткий адрес: https://sciup.org/147236165
IDR: 147236165 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9984
Текст научной статьи Латинская афористика в поэтике Ф. М. Достоевского
Я зыковое разнообразие — одна из существенных особенностей поэтики Ф. М. Достоевского. По наблюдению М. Бахтина, писатель «работает с очень богатой словесной палитрой» [Бахтин: 98]. В этой палитре особое место отведено иноязычной лексике и фразеологии, в том числе — латинского происхождения. Заимствования из современных европейских языков (французского, немецкого, итальянского, английского) становятся в художественных и публицистических текстах портретом эпохи: «…обильное введение Достоевским в язык литературных произведений слов и выражений, заимствованных в той или иной форме из иностранных языков, отражало широко распространенное в это время явление: новые слова для обозначения как предметов, так и понятий в самых различных областях — термины политические, научные, технические, медицинские и пр. — быстро входили тогда в язык» [Struve: 615]. Иноязычная лексика используется и как художественно-стилистическое средство создания образа, становясь значимым элементом речевого портрета, например указывая на инонациональное происхождение героя (Амалия Липпевехзель в «Преступлении и наказании» и др.) или на его идейные предпочтения (прежде всего иноязычные включения характерны для «русских европейцев» — Степана Трофимовича, Версилова и др.). В этом контексте латинские вставки занимают особое положение, так как относятся к языку, ставшему всенациональным достоянием, литературная форма которого существовала многие века и оказывала влияние на многие сферы общественной и культурной жизни.
Используемые Достоевским латинские слова, словосочетания и выражения функционально делятся на текстовые пометы, термины (медицинские, юридические), крылатые выражения.
Среди текстовых помет самая частотная — анаграмма NB , восходящая к выражению «Nota bene!» ( Смотри хорошо! = Обрати внимание ), которая в рабочих и дневниковых записях встречается более 1 900 раз. Высокая частотность свидетельствует об определенной значимости латинского выражения для идиостиля писателя: это излюбленная Достоевским форма маркирования важных мыслей. Зафиксированы разные варианты написания, которые разнообразятся знаками препинания (./!/?):
« Nota-bene: Nota-bene . Онъ самъ, своей волей, безъ требованiя Дяди и не написавъ ему выѣхалъ изъ Фрибурга (РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 6. С. 41).
NOTA-BENE: ТУТЪ огромное, NOTA-BENE, то что ОНЪ, изъ злостной иронiи и сатанинскаго губленiя взялъ за систему, подъ видомъ всегдашней бранчливости, ТОНКО ЛЬСТИТЬ И УДИВЛЯТЬСЯ подростку… (РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 12. С. 40).
Notabene: Важное. Notabene (РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 12. С. 45).
NB bene (РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 5. С. 19).
NBene: NBene Капитальнѣе характеръ Геро (РГАЛИ. Ф. 212.
Оп. 1. Ед. хр. 5. С. 82)
NBota-bene: NBota-bene , (важное). Порфирiю былъ доносъ, (но уже на третiй день) отъ мѣщанина… (РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 5. С. 91).
Нотабене (РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 5. С. 15).
ГЛАВНОЕ Нота-бене : ГЛАВНОЕ Нота-бене: Деньги онъ сталъ собирать съ идеей неясной, но идея эта все утверждалась и доказывалась ему дальнѣйшимъ ходомъ дѣла (ОР РГБ. Ф. 93. Разд. Ι. Карт. 1. Ед. хр. 4. С. 16)».
Вариативность, допускающая не только сочетание полных / неполных слов и заглавных / строчных букв, но и смешение русского и латинского написаний, свидетельствует о глубоком проникновении выражения в прагматический тезаурус Достоевского, о неосознанном использовании этого заимствования. Зачастую NB используется как маргиналия; встречаются и каллиграфические варианты написания NB / Nota bene — очевидно, что буквенное сочетание эстетически привлекало к себе писателя. В. Н. Захаров, проведя комплексное исследование маргиналий в записных книжках и тетрадях Достоевского, приходит к следующему наблюдению: «Писатель придавал особое значение графическому оформлению текста, следил за “разграфлением” рукописного и печатного текста, его разбивкой на строки и абзацы, эстетически оценивал разные начертания букв и типы почерков» [Захаров: 88].
Многие из латинизмов, встречающихся в рукописных текстах, отличаются своей прагматичной функциональностью. Это помета memento , а также терминологические конструкты: minimum , maximum , factotum , ex abrupto , summarium . В некоторых случаях Достоевский графически (подчеркиванием, написанием заглавными буквами) выделяет латинские слова и выражения (например, summarium , interim , Strepitu belli propelluntur artes 1). Иногда латинские выражения вставляются
Достоевским в русский текст, при этом сохраняя свою синтаксическую самостоятельность. Приведем примеры:
«Дарение происходит на мирской сходке самым патриархальным способом, без всякого контроля со стороны начальства и бюрократической процедуры. Est modus in rebus » (Ряд статей о русской литературе)2.
«О, опять повторю: да простят мне, что я привожу весь этот тогдашний хмельной бред до последней строчки. Конечно, это только эссенция тогдашних мыслей, но, мне кажется, я этими самыми словами и говорил. Я должен был привести их, потому что я сел писать, чтоб судить себя. А что же судить, как не это? Разве в жизни может быть что-нибудь серьезнее? Вино же не оправдывало. In vino veritas » (Подросток. Д30 ; 13: 363).
«То есть ещё вовсе нет и, признаюсь, я ровно ничего не слыхал, но ведь с народом что? поделаешь, особенно с погорелыми: Vox populi, vox Dei . Долго ли глупейший слух по ветру пу-стить? ‥ » (Бесы. Д30 ; 10: 404).
Однако чаще всего латинизмы интегрируются в предложение, подстраиваясь под законы русского синтаксиса и грамматики. Это становится отличительной чертой поэтики Достоевского, для которого вводимые в текст иноязычные элементы являются способом актуализации метасодержательных аспектов текста. Так, обращаясь к вопросу об отношении иноязычных вставок к идейному наполнению и предметнособытийному содержанию произведения, М. М. Халиков отмечает, что «у Достоевского последовательно выполняется принцип коррелирования релевантности содержания и степени вероятности появления иноязычных вставок. В произведениях и структурных их частях, семантически фокусированных на изображении событий и предметов, имеющих корневое значение для раскрытия идейно-философских, социологических, эстетических взглядов писателя, такие включения исключительно редки» [Халиков: 101]. Исследователь подтверждает свои утверждения примерами многочисленных включений из французского языка, которые не несут существенной идейной нагрузки, являясь стилистическими и характерологическими средствами (например, mon cher — мой дорогой, charmante — очаровательно, pardon — простите, merci — спасибо и т. п). Между тем латинские включения выносятся Достоевским в названия структурных частей некоторых произведений: например, выражение Pro et contra обыгрывается в названии одной из книг романа «Братья Карамазовы» (Pro и contra), а Post scriptum и Status in statu — названия глав «Дневника писателя» за 1876 и 1877 гг. Многие из рассмотренных нами далее латинских цитат концентрируют в себе важные философские мысли, которые подвергаются художественному и идеологическому осмыслению.
Появление иноязычных вставок выполняет характерологическую функцию по отношению к тем персонажам, в речи которых они появляются: речевая стилистика, маркированная языковыми переключениями, свидетельствует не только о культурных предпочтениях героя, пренебрегающего родным языком, но создает ироничный, пародийный контекст. Так, использование в речи Степана Трофимовича Верховенского выражения Alea jacta est (Жребий брошен!) создает дополнительный ироничный штрих к портрету персонажа — апеллируя к афоризму Цезаря в житейской ситуации, он неосознанно делает себя смешным:
«— О, прощайте мечты мои! Двадцать лет! Alea jacta est .
Лицо его было обрызгано прорвавшимися вдруг слезами; он взял свою шляпу.
— Я ничего не понимаю по-латыни, — проговорила Варвара Петровна, изо всех сил скрепляя себя. Кто знает, может быть ей тоже хотелось заплакать, но негодование и каприз еще раз взяли верх:
— Я знаю только одно, именно, что всё это шалости. Никогда вы не в состоянии исполнить ваших угроз, полных эгоизма. Никуда вы не пойдете, ни к какому купцу, а преспокойно кончите у меня на руках, получая пенсион и собирая ваших ни на что не похожих друзей по вторникам. Прощайте, Степан Трофимович.
— Alea jacta est ! — глубоко поклонился он ей и воротился домой еле живой от волнения» ( Д30 ; 10: 267).
Латинская афористика, на многие века обогатившая европейскую словесность, является прецедентным текстом, обращение к которому мотивировано многими художественными и идейно-философскими задачами, которые ставит перед собой автор. Усеченные или измененные афоризмы, вложенные в уста героев, — попытка через обращение к общеизвестным константам культуры сказать свое слово. Но эти попытки в текстах Достоевского часто приобретают пародийный характер. Так, античное De gustibus non est disputandum (О вкусах не спорят) в устах Мити Карамазова превращается в «Де мыслибус non est disputandum», т. е. «О мыслях не спорят» (Д30; 15: 326). Псевдо-латынь (де мыслибус) превращается в квазимудрость, которая преподносится как жизненный принцип семьи: «Карамазовы не подлецы, а философы. Символично, что такая авторская переработка популярного афоризма отражает историю его интерпретации в культуре: латинское слово gustus (вкус), используемое в качестве объекта, о котором не должно спорить, имеет значение физиологического ощущения или признака предмета, вызывающего это ощущение. То есть изначально выражение носило приземленный, житейский характер, а уже впоследствии в него вложили отвлеченные значения, связанные с чувством прекрасного, склонностью к чему-либо3. Герой Достоевского словно продолжает эту цепочку смысловых замен, переключаясь с эстетической сферы на ментальную; но словесная форма этого переключения карикатурна.
Не единожды Достоевский обращается к афоризму Homo sum et nihil humanum a me alienum puto (Я человек и полагаю, что ничто человеческое мне не чуждо). Вложенное в уста Свидригайлова выражение не только редуцируется, но и предстает в гибридном виде: латинское homo sum заменяется на древнерусское я человек есмь . Обратившая на это внимание Е. С. Куйкина проводит контекстуальный анализ слова «человек», отмечая случаи, когда «оно отсылает читателя к Евангелию, так как образ Человека и нормы человечности даны в Евангелии» [Куйкина: 47].
Концепт «человек» — один из важнейших в миропонимании Достоевского. Тем символичнее трансформация, произошедшая с афоризмом в «Братьях Карамазовых»; в диалоге Ивана Карамазова с явившимся ему чертом находим:
«— Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь. Воплощаюсь, так и принимаю последствия. Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto .
— Как, как? Сатана sum et nihil humanum… это не глупо для чорта!» ( Д30 ; 15: 74).
Сатана заменяет собой место человека и в крылатом выражении, и в жизни. Являясь двойником Ивана, черт всячески доказывает свое существование, в том числе — через цитируемый латинский афоризм. Как отметила Д. Мартинсен, черт Ивана Карамазова «утверждает «собственную оригинальность путем подчеркивания собственной вторично-сти» [Мартинсен: 75].
Особое внимание следует уделить выражениям, относящимся к католической культуре.
В романе «Подросток» при описании фаустовской сцены в обдумываемой Тришатовым опере Достоевский не единожды обращается к средневековому церковному гимну «Dies irae». Проведенный Н. А. Тарасовой послойный текстологический анализ этой сцены показал, как развивалась творческая работа над черновиком. Согласно сохраненным рабочим записям музыкальный мотив Dies irae встречается в сцене трижды4:
«Я очень долго учился. Ведь я серьезно учился. Если б я сочинял оперу, то знаете, я бы взял сюжет Фауста. Я очень люблю эту тему, у Гуно хорошо, но я, знаете, я все создаю сцену в собо-р[у]е. Знаете, готический собор, внутренность, хоры, Гимны, [Маргарита] входит Гретхен, и знаете, хоры средневековые, как у Мейербера, у которого так и слышится десятый век в Роберте, пахнет, пахнет десятым веком. Маргарита в тоске, — сначала речитатив — тихий, но ужасны[й]е, мучительны[й]е ноты и вдруг [Dies irae, dies ilia,] — и вдруг голос дьявола, песня дьявола. [Я б] Он невидим, [одна] но [слышится] песня, рядом с гимнами песня, неустанная, длинная, рядом с гимнами, вместе с гимнами, совпадающая с ними, [а между тем совсем другая] совпадает с ними, а между тем выходит совсем другое, как-нибудь сделать это. Это тенор, непременно тенор. Начинает тихо, нежно: Помнишь Гретхен, когда ты [полов] была невинна душой, лепетала в церкви молитвы по старой книге, — но песня становится все страстнее, все сильнее, ноты выше, [иные ноты] и уж звучит страшной тоской, слезами и безвыходным отчаянием, безвыходностью отчаяния, нет прощения, а хоры поют ноты Dies irae, Dies illa, все выше, выше, [сильнее, сильнее,] все стремит<ельнее> и вдруг [оканчивает<ся> отрывисто] обрывает<ся> криком исступления, — Конец всему нет прощения [Маргарита] осуждена! — Маргарита хочет молиться, но лишь вскрикивает — знаете [судор] когда страшн<ые> судороги от слез в груди, [ее вскрикивания сливаются] [сби] плачет, а тут Dies irae, Dies illa, песня сатаны давит [мучит, ее охватыв<ает>] пронизает ее всю, вонзается как острие в душу, и все выше, выше [вдруг она] падает, [складывает] [ломает] сжимает в отчаянии руки — и тут что-нибудь кроткое, ее молитва, краткая, [сильная,] полуречитатив, но наивное, в высшей степени наивное и средневековое, четыре стиха, только четыре, несколько нот, у Страделлы есть несколько таких нот, [крик и она] и с последней нотой она вся как бы высказываясь кричит и падает в обморок, смятение. Тут вдруг страшно гудит орган, общий хор, ее подымают, несут, хор сильнее, и [вдр] [сильнее] и ее несут и вдруг что-нибудь в роде [нашего] как удара в роде как у нас Дори-но-си-ма чин-ми, в Певческой капелле, помните так чтоб все потряслось на основаниях [и кончается] [вдохновенной, стр] [и] [нарисовать>] и затем все переходит в вдохновенный, бесконечный, огромный крик: всем хором, хорами всей вселенной: Hossanna! Ее несут, а кругом Hossanna, а ее несут, несут, и тут опустить занавес» [Тарасова: 171–172].
Несмотря на то, что один раз Dies irae вычеркнуто, именно это выражение маркирует основной музыкальный мотив сцены. Согласно замечанию Т. Самсоновой, «в мотиве “Dies irae” заложена многозначная мировоззренческая эсхатологическая религиозная идея о конечных судьбах человеческой личности и всего сущего на земле» [Самсонова: 94]. Отметим, что поток черновых записей дважды соединяет Dies irae с темой дьявола:
«1) речитатив — тихий, но ужасны[й] е , мучительны[й] е ноты и вдруг [Dies irae, dies illa,] — и вдруг голос дьявола, песня дьявола;
-
2) плачет, а тут Dies irae, Dies illa , песня сатаны давит [мучит, ее охватыв(ает)] пронизает ее всю ».
Таким образом, католическая секвенция звучит параллельно с песней дьявола5, не только создавая переплетение музыкальных мотивов, но и образно воплощая борьбу Бога и дьявола в душе человека. Символично, что кульминация сцены окрашена в мажорные тона, ассоциативно связанные с православным богослужением: маргиналия на странице черновика содержит строку из Херувимской песни «Яко за царя всех подымем». По мнению А. Гозенпуда, «у Достоевского действие, дойдя до трагической вершины, переключается в иную, светлую сферу; наступает новая, мажорная кульминация» [Гозен-пуд: 145].
Соединение католических и православных образов в опере Тришатова приобретает особую значимость для романа в целом, отражая исходную идею христианского Первообраза. Сошлемся на мнение В. А. Котельникова: «С чрезвычайной чуткостью он (Достоевский. — А. С. ) уловил те представления и идеи, которые лежали в глубине европейско-русского средневекового христианства, и дал им выражение. При этом конфессиональные и национальные границы подчас стираются у Достоевского, несмотря на его твердо заявленное православие и русофильство» [Котельников: 24]. Достоевский создает многомерную картину, сочетая литературную, музыкальную и языковую традиции: в сцене звучат латынь, древнерусский и древнееврейский языки.
Схожий синтез можно наблюдать в описании кельи старца Зосимы в «Братьях Карамазовых»:
«Два горшка цветов на окне, а в углу много икон — одна из них богородицы, огромного размера и писанная, вероятно, еще задолго и до раскола. Пред ней теплилась лампадка. Около нее две другие иконы в сияющих ризах, затем около них деланные херувимчики, фарфоровые яички, католический крест из слоновой кости с обнимающею его Mater dolorosa и несколько заграничных гравюр с великих итальянских художников прошлых столетий. Подле этих изящных и дорогих гравюрных изображений красовалось несколько листов самых простонароднейших русских литографий святых, мучеников, святителей и проч., продающихся за копейки на всех ярмарках» ( Д30 ; 14: 37).
Смешение эпох и стилей в обустройстве кельи — свидетельство приятия ее хозяином разных символических проявлений христианской веры. Православные иконы и итальянские гравюры, народный лубок и старинная дониконовская икона… Среди этой христианской образной символики выделяются две Богоматери: православная Богородица на самой большой иконе, озаряемой лампадкой, иконе, написанной до раскола православной церкви, и католическая мадонна, латинское именование которой графически выделяет ее в тексте.
В романе встречается еще одна латинская номинация Богоматери — в скабрезном анекдоте, рассказываемом Ивану Карамазову чертом:
«Приходит к старику патеру блондиночка, норманочка, лет двадцати, девушка. Красота, телеса, натура — слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. “Что вы, дочь моя, неужели вы опять уже пали? ‥ — восклицает патер. — O Sancta Maria , что я слышу: уже не с тем. Но доколе же это продолжится, и как вам это не стыдно!” — “Ah mon р ѐ rе, — отвечает грешница, вся в покаянных слезах. — Çа lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine!”» ( Д30 ; 15: 81).
Святое имя вложено в уста католического священника, эмоционально реагирующего на признание в грехе. «Комизм» ситуации выстраивается на парадоксальных сочетаниях: покаянные слезы юной грешницы сочетаются с полным непониманием совершенного ею прегрешения, взывающий к Богоматери (ее латинизированное имя упоминается всуе как междометие) священник практически сразу поддается греховному соблазну и назначает исповедуемой красотке свидание. Слова кающейся грешницы, составляющие «соль» анекдота, приводятся на французском языке, что вносит дополнительную смысловую игру: на стилистическом уровне сталкиваются латынь — регламентированный язык католической церкви — и живая французская речь, остроумно поясняющая природу плотской любви. Сниженно-ироничный тон черта, порожденный всеотрицающей природой демонизма / дьяволизма (дух отрицанья), актуализирует мотив шутовства, при помощи которого Достоевский «подвергает “испытанию” тревожащие его мысли» [Димитрова: 63]. По наблюдению
Е. Мелетинского, «шутовская стихия прорывается в изображении черта, который представляется ему (Ивану Карамазову. — А. С .) на пороге безумия и как бы оказывается его двойником, сконцентрировавшим некоторые черты его подсознания, его “чувств, только самых гадких и глупых”» [Ме-летинский: 160].
В романах «Идиот» и «Братья Карамазовы», в которых затрагивается тема римского католичества, большинство латинских выражений принадлежат религиозной афористике. Многие из выражений помещены Достоевским в иронический и даже сатирический контекст. Сошлемся на мнение Н. Лос-ского: «Имея в виду… мысли Достоевского о католичестве, можно решительно утверждать, что в легенде Достоевский хотел в художественной форме обличить искажение христианства, производимое если не всею католическою церковью, то некоторыми служителями ее или группою ее служителей» [Лосский]. Потеря веры — генеральная идейная линия романа — маркируется латинским словом в речи Федора Павловича Карамазова, так рассуждающего о старце Зосиме:
«…А ведь в старце этом есть остроумие, как ты думаешь, Иван?
— Пожалуй что и есть.
— Есть, есть, il у a du Piron là-dedans. Это иезуит, русский то есть. Как у благородного существа, в нем это затаенное негодование кипит на то, что надо представляться... святыню на себя натягивать.
— Да ведь он же верует в Бога6.
— Ни на грош. А ты не знал? Да он всем говорит это сам, то-есть не всем, а всем умным людям, которые приезжают. Губернатору Шульцу он прямо отрезал: credo , да не знаю во что» ( Д30 ; 14: 124).
Карамазов-старший, сплетничая о православном старце, свою пустую болтовню снабжает иноязычными вставками, анализ которых позволяет определить культурологический контекст его рассуждений. Упоминание на французском языке А. Пирона не только иллюстрирует круг чтения Федора Павловича, но в некотором смысле объясняет природу его цинично-насмешливой манеры общения: Пирон скандально известен во французской литературе непристойной «Одой Приапу», получившей в России большую популярность при Баркове и поэтах его круга (см. [Илюшин]). Слово credo (верую) отсылает к латинскому варианту «Символа веры»: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium (Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого). В устах героя-шута Карамазова переиначивается общехристианское молитвословие, определяющее главный объект веры — Бога. Смешение языков (латинского и русского) иллюстрирует смешение и смещение духовных ориентиров: вера (credo), идущая из глубины души, из сердца, замещается знанием (не знаю), нацеленным на логическое познание смысла бытия, но познания этого не достигающим (не знаю во что). Недаром далее поток мыслей приводит Федора Павловича к Мефистофелю: «Есть в нем что-то мефистофелевское или, лучше, из “Героя нашего времени”… Арбенин али как там…» (Д30; 14: 124).
Латинская словоформа ассоциативно отсылает к католической церкви, уже пережившей раскол7, а в середине XIX в. переживающей идейно-политические перемены в связи с так называемым «папским вопросом».
О том, что именно этот вопрос учитывается Достоевским при разработке темы неверия, свидетельствует следующее пародийное обыгрывание латинской католической словесной формулы mea culpa (моя вина) в романе «Идиот»:
« Mea culpa, mea culpa , как говорит римская папа… то есть он римский папа, а я называю его “римская папа”» ( Д30 ; 8: 440).
Священное ритуальное высказывание подвергается осмеянию шутом Лебедевым, как и носитель этого высказывания — глава католической церкви, фигура которого унижается словесной игрой.
«Папский вопрос» в эксплицитной форме предстает в романе, где устами главного героя трактуется одна из основных установок римского папаства — non possumus ( не можем ):
«Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле, и кричит: “Non possumus!” По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи, и в нем всё подчинено этой мысли, начиная с веры» (Д30; 8: 450).
Отметим, что эта латинская формула становится для Достоевского своеобразным символом бессилия католической церкви перед земными благами светской власти: в публицистических работах, посвященных римскому вопросу, писатель также апеллирует к этой формулировке:
«Дело мы рассматривали так: папское “ Non possumus ” мы считаем настолько серьезным, что воплощаем в нем жизнь и смерть самой религии в Европе» (Иностранные события, Д30 ; 21: 243).
Главная причина «антипапских» настроений Достоевского — неприятие им новых постулатов католической церкви, вводимых папой Пием IX, утверждающих право понтифика на светскую власть. По наблюдению А. А. Юдахина, «тот факт, что Католическая Церковь … трансформировалась в государство, пугает и возмущает Достоевского, в этом он винит антихристианское начало, кроющееся в католической религии» [Юда-хин: 55]. Обратившаяся в государство католическая церковь порождает status in statu ( государство в государстве ) — один из наиболее порицаемых Достоевским социальных феноменов. В рабочих материалах к «Подростку» Достоевский называет его «нелепостью»8. Широкий политический кругозор писателя позволяет увидеть проявления этой «нелепости» в современном ему российском обществе: отделение от народа интеллигенции и духовенства, обособленное положение евреев — все это проявления status in statu , порожденного общественным расколом и всё более усиливающего этот раскол.
Неоднократное появление некоторых латинских выражений в художественных и публицистических текстах Достоевского свидетельствует об их присутствии в тезаурусе писателя. Цитатный характер латинских выражений позволяет определить их как прецедентный текст, отсылка к которому создает глубину и многоуровневость подтекста. Так, сочетание латинского и русского языков, представленное в форме вольного обыгрывания известных афоризмов, с одной стороны, выполняет характерологическую функцию, являясь одной из значимых черт речевого портрета персонажей, свидетельствующей о культурно-исторических координатах их мировоззрения, а с другой — выявляет лингковкультурный контекст кругозора писателя, обусловливающий полифонизм его поэтики. Особое место в идиостиле Достоевского занимает латинская афористика, которая актуализирует тему римско-католического христианства и определяет отправные точки для критического осмысления догматики католической церкви. Так, начало католической секвенции Dies irae и латинский вариант именования Богоматери (Mater dolorosa) иллюстрируют разнообразие символического проявления христианской веры. Коверканье церковных латинских формул и насмешка над ними (Sancta Maria, credo, mea culpa) героев-шутов дополняет картину искажения, перерастающего в отрицание христианских ценностей. Папская форма категорического отказа Non possumus для князя Мышкина и для самого Достоевского воплощает смерть христианства в Европе.
Примечания
-
1 Это выражение подробно проанализировано нами ранее, см.: [Скоропадская].
-
2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1979. Т. 19. С. 47. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения Д30 и с указанием тома и страницы в круглых скобках
-
3 Этимология афоризма приводится по: Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых слов и выражений / Н. Т. Бабичев, Я. М. Боровский. М.: Русский язык, 1982. URL: https://dic.academic.ru/ contents.nsf/latin_proverbs/ (01.03.2021).
-
4 Текст приводится по публикации Н. А. Тарасовой [Тарасова]. Курсивом выделены пропуски текста в публикации рукописи в академическом издании. Прямой линией подчеркнуты разночтения между рукописью и публикацией. В квадратных скобках приводится вычеркнутый Достоевским текст, полужирным выделен вписанный им текст.
-
5 Ср. анализ этой сцены у Е. А. Гаричевой: «…в душе героини звучит хоровая песнь и ее молитва, а также голос Мефистофеля, как в опере Тришатова. В драме Гете орган и хоровое пение разделены, как и было в католической церкви XV века. Гретхен слышит слова секвенции, которые повторяет, трансформируя, Злой Дух» [Гаричева: 95].
-
6 Исправлено по прижизненным изданиям.
-
7 Об осмыслении Достоевским «западного» раскола см.: [Белопольский].
-
8 Взять хоть бы нелепость Status in statu, какой же он товарищ при Status in statu? (Подросток. Д30 ; 16: 408)
materialy V Mezhdunarodnoy konferentsii [ Russia and Greece: Dialogues of Cultures: Materials of the 5th International Conference ]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2020, pp. 45–52. (In Russ.)
Список литературы Латинская афористика в поэтике Ф. М. Достоевского
- Бахтин М. Проблемы творчества Достоевского // Бахтин М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари, 2000. Т. 2. С. 5-175.
- Белопольский В. Достоевский и «западный раскол»: генезис и семантика фамилии главного героя романа «Преступление и наказание» // Достоевский и мировая культура: альманах. 2013. № 30. Ч. 1. С. 286-291.
- Гаричева Е. А. Писатели и поэты второй половины XIX века о религиозном назначении искусства // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. 2009. № 2. С. 82-98.
- Гозенпуд А. Достоевский и музыкально-театральное искусство. Исследование. Л.: Сов. композитор, 1981. 224 с.
- Димитрова Н. И. Христианский кенозис и шутовское самоумаление: к культурной антропологии Достоевского // Соловьевские исследования. 2011. № 3. С. 60-71.
- Захаров В. Н. Поэтика и жанр маргиналий в записных книжках и рабочих тетрадях Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2018. Т. 16. № 3. С. 85-100 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/ redaktor_pdf71538994799.pdf (18.03.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2018.5461
- Илюшин А. А. Запоздалый перевод эротико-приапейской оды (Alexis Piron, «Ode a Priape») // Philologica. 1994. № 1/2. С. 247-263.
- Котельников В. А. Средневековье Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования / РАН, ИРЛИ; отв. ред. Н. Ф. Буданова, И. Д. Якубович. СПб.: Наука, 2001. Т. 16: Юбилейный сборник. С. 23-31.
- Куйкина Е. С. Латинская пословица из комедии Теренция в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского // Россия и Греция: диалоги культур: материалы V Международной конференции. Петрозаводск: ПетрГУ 2020. С. 45-52.
- Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechniky6/dostoevskij-i-ego-hristianskoe-miroponimanie/2 (18.03.2021).
- Мартинсен Д. Черт Ивана Карамазова и эпистемическое сомнение // Вопросы философии. 2014. № 5. С. 73-77.
- Мелетинский Е. М. Заметки о творчестве Достоевского. М.: РГГУ, 2001. 190 с.
- Самсонова Т. П. Понятие "архетипическое" в культурной антропологии на материале музыкальной культуры // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2007. № 11 (74). С. 92-95.
- Скоропадская А. А. Strepitu belli propelluntur artes: латинский афоризм Достоевского // Неизвестный Достоевский. 2020. № 4. С. 208-221 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/ redaktor_pdf/1607596553.pdf (18.03.2021). DOI: 10.15393/j10.art.2020.5001
- Тарасова Н. Фаустовская сцена в романе Достоевского «Подросток» // Русская литература. 2010. № 1. С. 171-187.
- Халиков М. М. Полилингвизм художественного мира Ф. М. Достоевского // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2021. Т. 23. № 76. С. 98-109. DOI: 10.37313/2413-9645-2021-23-76-98-109
- Юдахин А. А. Достоевский и «римский вопрос» (1862-1865 гг.) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия I: "Богословие. Философия. Религиоведение". 2019. № 84. С. 51-65. DOI: 10.15382/sturI201984.50-64
- Struve G. Кое-что о языке Достоевского: употребление Достоевским заимствованных слов и злоупотребление ими // Revue des études slaves. 1981. Т. 53. Fasc. 4. P. 607-618. DOI: 10.3406/slave.1981.7809